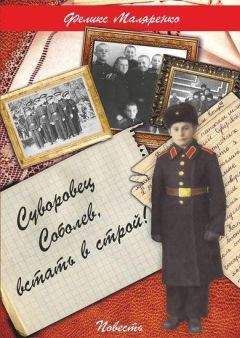Но Витька стянул ему на шее гимнастёрку и продолжал тащить к Саньке.
— Пусти! – орал Рустамчик. – Пусти, гад!
Витька навалился на него всем телом, завалил в сугроб и, окуная головой в снег, зло выкрикивал:
— Ешь снег и клянись! Клянись, что не будешь! Ешь и клянись!
— Хватит! Хватит! – подбежал Санька. – Ну его к чертям, — и попробовал оттащить Витьку.
Подбежали остальные и тоже начали разнимать. Витька неистовствовал. Он продолжал толкать Рустамчика в сугроб. Тем более Рустамчик тоже не мог успокоиться. Он орал, как резаный:
— Пусти, гад, пусти!
И тут сильные руки подняли обоих, поставили на ноги и развели в разные стороны. Произошло всё неожиданно, и Рустамчик, ещё не соображая, что случилось, продолжал лопатить воздух руками.
— Успокойся, зашибёшь!
Санька поднял голову. Витька и Рустамчик висели в руках у Володи Зайцева.
— Что за пожар на снегу?
— А чего он в сугроб толкает, заставляет его жрать и ещё перед этим извиняться, — показал Рустамчик в сторону Саньки.
— Не надо «стукача» клеить, — спокойно сказал Витька. – Хотел, чтобы он извинился перед Санькой, а он распсиховался. Какой он нервный. Как подвывать, так спокойненько, а как извиняться – так психовать.
Володя, державший Рустамчика, выпустил его, как показалось Саньке, небрежно и даже брезгливо. Потом задумался, и тихо сказал:
— У всех народов во все времена было два самых страшных слова – трус и предатель. Хотя предатель – тот же трус. И если ты обвиняешь своего товарища без повода в предательстве, то это та же трусость и то же предательство. Он тебя предавал?
— Меня нет! А тебя – да! – зло стрельнул глазами Рустамчик.
— Но если меня, то я сам разберусь. Мне такие защитники не нужны.
— Он не предавал, — сказал Витька. Он, наоборот, хотел тебя защитить перед командиром роты за то, что мы Воробья между окон зажали. Он хотел сказать, что Воробей не такой уж хороший, что он тебе синяк поставил. А Сорокин сказал, что ты нас науськиваешь, и постарается сделать так, чтобы ты вожатым у нас не был. Вот и всё…
После Витькиных слов было видно, как Володя погрустнел:
— Значит, сказал, что я не буду у вас вожатым? Ладно, сам разберусь, — и, повернувшись к Рустамчику, добавил: — Шадрин, наверно, прав. Тебе бы надо извиниться, — потом взял валявшуюся лопату Рустамчика и встал в самом конце лесенки, чтобы сталкивать скопившийся снежный валик с асфальта.
Рустамчик остался один на чистом от снега пространстве, между двумя снежными полосами и, сжавшись, как от холода, посматривал то в одну, то в другую сторону.
Последние две недели Волынский непонятно изменился. Осталось всё: и волны длинных волос, и мятый костюм, и пуговица на нитке, и всплеск рук как отражение вулкана чувств, и восторженные слова «Музыка – это прекрасно!» Но теперь он не крутил пластинки, а без перерыва, от звонка до звонка, заставлял взвод разучивать песни. Их было три: «Марш суворовцев» на слова и музыку самого Волынского, которая начиналась замечательными стихами: «Взвейтесь, соколы, орлами, то суворовцы идут…», и ещё две: «Шли домой с войны советские солдаты» и «Летите, голуби, летите» или, как её называл учитель, «Песня мира». Песни учила вся рота. Пели с наслаждением, поэтому уроки пролетали быстро. Даже Валера Галкин не отвлекался, потеряв надежду найти что-нибудь в чернильнице. Можно было его несчастье отнести на счёт зимы, из-за неё ротный биолог Гриша Голубков, если бы его тоже не захватала музыка, и среди зимы нашёл бы чем заполнить чернильницу: мокрицами, тараканами, на худой конец, маленькой мышкой. Но ему так глубоко запала в душу песня про голубей, что он только и знал, как отправлять их в стремительный полёт. Мурлыканье его доносилось из сушилки, где он отлавливал очередную мышь в самозахлопывающуюся мышеловку собственной конструкции.
Когда суворовцы окончательно пропитались словами и музыкой, Волынский торжественно объявил, что отныне репетиция переноситься на сцену клуба, и в концерте художественной самодеятельности училища, кроме Витьки Шадрина и запевалы Валеры Галкина, будет участвовать вся седьмая рота. Она выстраивалась на сценической лесенке, и с самой вершины смотрела в зал карандашная шеренга – ротный хвост. Слева от Саньки поблёскивал кошачьими глазами Гриша Голубков, справа тёрся о Санькин рукав Витька Шадрин, дальше – крепкий и круглый Вовка Розов, ещё дальше – печальный и рыжий Толя Декабрёв и остальные.
Музвзвод сидел в широкой оркестровой яме, и Санька с высоты положения видел, как в её глубине взмахивает руками майор Шабурко, как сверкает золотой зуб барабанщика Пети, когда он со всего маха вбивает всю удаль в бедную ослиную кожу, должную сносить муки ада после утери своего хозяина.
Витьке после первых репетиций петь наскучило, и он уныло и беззвучно открывал рот, а в перерывах между песнями теребил Гришу Голубкова:
— Ну что это за песня без декораций? Поём про голубей, а у нас не то что птиц – картинки про них нет. В зелёных Гришкиных глазах сразу появлялись блёстки и, казалось, его зрачки превратились в кошачьи палочки. – Гриш, на фестивалях после этой песни тысячи голубей выпускают, а у нас – скукотища.
— А где сейчас голубей отыскать? Вместо голубей, хочешь, мышей пустим?
— Гриш, ну ты даёшь! От мышей ползала разбежится! Мы-то с твоими шуточками знакомы, а что сказать о слабонервных женщинах, преподавателях или девчонках, которые в ансамбле танцуют. Они с твоим зоопарком не знакомы. От них только визг останется. А голуби, знаешь, как красиво? Это тебе не мухи в чернильнице.
— Ладно, — не выдержало Гришкино сердце. – Надо где-нибудь раздобыть сеточку или клеточку какую-нибудь на силки. Я подумаю.
Санька видел, что на протяжении всей репетиции и даже во время разговоров Витька вглядывался в зал, пытаясь увидеть кого-то в темноте. После одной из репетиций он грустно шенул:
— Почему она не пришла? Почему? Без неё на танцы не хочется?
— Кто, Танечка?
— Сам ты Танечка, — взвился Витька. – Будто не знаешь кто. Лида! – он снова опустился до шёпота. – Понимаешь, не только мне без неё скучно. Раньше из первой, второй, третьей роты приходили, даже если в концерте не участвовали. Приходили просто так, поболтать. А сейчас заглянут в клуб, постоят, посмотрят и уходят. Почему она исчезла? Даже Володя Зайцев в самом конце приходит. И танец без неё не танец. Раньше уборщицы клубные засматривались, когда она на сцене кружилась, и на репетициях нам хлопали. А теперь только ругают, что дверьми хлопаем и ноги не вытираем. Никто ничего не знает. Девчонки не говорят, видно завидуют. Кто-то сказал, что она то ли болеет, то ли в театральное училище готовится.