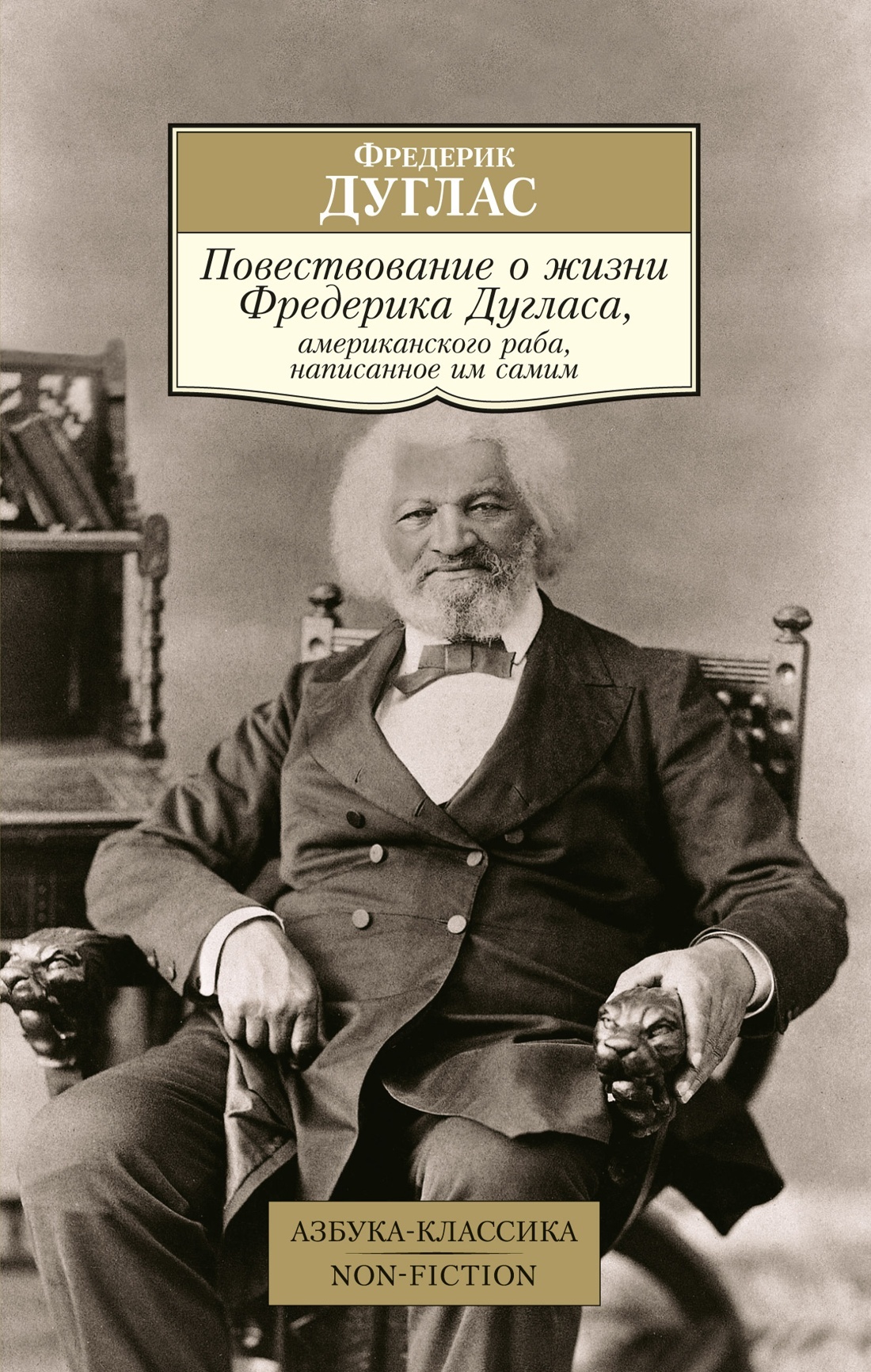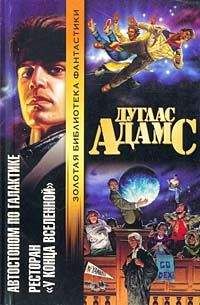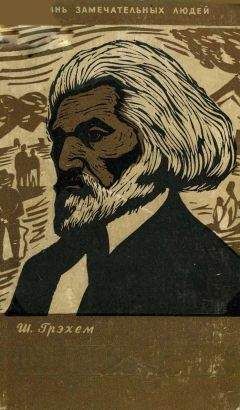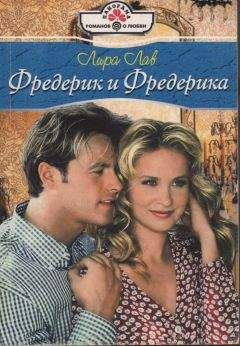я не собирался отступать. Я заставлял себя зарабатывать деньги. Я был готов работать день и ночь и благодаря неустанному упорству и трудолюбию смог оплачивать свои расходы и понемногу откладывать деньги каждую неделю. Все это длилось с мая по август. Затем масса Хью отказал мне в этом праве. Почвой для отказа послужило мое отсутствие в один из субботних вечеров, когда я должен был принести ему недельное жалованье. Этот промах был вызван посещением лагерного собрания в десяти милях от Балтимора. Еще за неделю я договорился с компанией ровесников ранним субботним вечером отправиться за город на ночевку и, задержавшись у работодателя, не стал заходить к массе Хью, чтобы не расстроить наш уговор. Я знал, что в ту ночь масса Хью не нуждался в деньгах, и решил, что по возвращении с ночевки заплачу ему три доллара. Я задержался в лагере на день дольше, чем намеревался, когда уходил. Но, как только вернулся, сразу же спросил его, могу ли заплатить то, что, как он считал, я был ему должен. Я увидел, что он очень зол. Он заявил, что у него чешутся руки закатить мне взбучку. Его интересовало, как я осмелился выйти из города, не спросив разрешения. Я ответил ему, что нашел работу и покуда я плачу ему сумму, которую он запросил за это, то не думал, что обязан спрашивать его, когда и куда мне идти. Этот ответ встревожил его, и, поколебавшись немного, он повернулся ко мне и сказал, что лишает меня права работать по найму и что ему следует знать, не собираюсь ли я бежать. Под тем же предлогом он приказал мне тотчас же принести домой инструменты и одежду. Я принес их, но вместо поисков работы, как ранее, провел целую неделю, не ударив пальцем о палец. Я поступил так в отместку. В субботний вечер он, как обычно, позвал меня для расчета. Я сказал ему, что ничего не заработал; всю эту неделю я бездельничал. Тут мы едва не сцепились. Он бушевал и клялся в своей решимости взяться за меня как следует. Я отмалчивался, но про себя решил, что, если он прикоснется ко мне, я отвечу ударом. Он не стал трогать меня, но сказал, что впредь я должен работать постоянно. Весь последующий день я раздумывал и наконец решился в третий день сентября снова попытаться бежать. В моем распоряжении было три недели, чтобы подготовиться к побегу. Рано утром в понедельник, перед тем как масса Хью мог чем-нибудь занять меня, я вышел и сам нашел работу у мистера Батлера, на верфи, рядом с подъемным мостом, что называется Сити-Блок, избавив его, таким образом, от необходимости искать для меня работу. В конце недели я принес ему около восьми или девяти долларов. Он, кажется, был весьма доволен и спросил меня, почему я не сделал то же самое неделю назад. Он, видимо, догадывался, что у меня на уме. Работой я старался устранить всякое подозрение по поводу моих намерений и весьма преуспел в этом. Полагаю, он не думал, что я никогда не был так доволен своим положением, как в то время, когда планировал побег. Прошла вторая неделя, и я вновь принес ему всю зарплату; и так он был доволен, что дал мне 25 центов (огромная сумма, которую рабовладелец мог дать рабу) и приказал мне разумно потратить их. Я сказал ему, как и был должен сказать, что так и поступлю.
Для меня важно описать мои чувства по мере того, как приближалось время побега. У меня было множество сердечных друзей в Балтиморе – друзей, которых я любил едва ли не как свою жизнь, – и мысль, что я буду разлучен с ними навсегда, была невыразимо тягостна. На мой взгляд, из тех, кто находится в рабстве сейчас, убежали бы тысячи, но остаются они из-за крепких уз привязанности, что связывает их с товарищами. Мысль о том, что я покину моих товарищей, была решительно самой болезненной мыслью, с которой я боролся. Любовь к ним была моим уязвимым местом и ослабляла мое решение больше, чем все остальное. Кроме боли разлуки, страх и мрачное предчувствие провала превосходили то, что я знал по опыту первой попытки. Ужасное поражение, выдержанное тогда мной, снова начало изводить меня. Я уверял себя, что, если провалюсь и в этот раз, мое дело окажется безнадежным и окончательно решит мою судьбу как раба. Я не мог надеяться ни на что другое, кроме жестокого наказания, что снова окажусь в таких условиях, когда побег станет невозможен. Не надо иметь слишком живое воображение, чтобы нарисовать самые ужасные сцены, через которые я должен был бы пройти в случае провала. Прозябание рабства и блаженство свободы постоянно стояли предо мною.
Я находился между жизнью и смертью. Но, оставаясь твердым в своем решении, на третий день сентября 1838 года я сбросил оковы и добрался до Нью-Йорка без каких-либо препятствий. Как мне удалось это, какими я средствами пользовался, в каком направлении путешествовал и как передвигался, я должен оставить в тайне по причинам, упомянутым выше.
Меня часто спрашивают, как я себя почувствовал, когда очутился в свободном штате. Я никогда не мог ответить на этот вопрос так, чтобы остаться довольным собой. Это был момент наивысшего волнения, когда-либо испытанного мной. Я думаю, что чувствовал себя так, как, представьте себе, чувствует себя безоружный матрос, когда его спасает от погони пиратов дружественный военный корабль. В письме близкому другу сразу по прибытии в Нью-Йорк я написал, что чувствую себя подобно тому, кто освободился из логова голодных львов. Это состояние души, однако, очень скоро прошло, и меня снова охватило чувство величайшей ненадежности и одиночества. Меня все еще могли вернуть обратно и подвергнуть всем мукам рабства. Этого само по себе было достаточно, чтобы охладить пыл моего энтузиазма. Но одиночество лишило меня самообладания. Тут я был среди тысяч людей и всем им чужой, без дома, без друзей, среди тысяч моих собратьев – детей одного Отца, – и все же никому не решаясь открыть моего печального положения. Я опасался заговорить с любым из них из боязни сказать не то, что нужно, и таким образом попасть в руки жадных до денег похитителей, чьим делом было высматривать запыхавшегося раба, как дикие лесные звери лежат, подкарауливая добычу. «Не доверяй никому!» – эти слова стали для меня правилом при бегстве из рабства. В каждом белом я видел врага и почти в каждом цветном – повод для подозрения. Это была