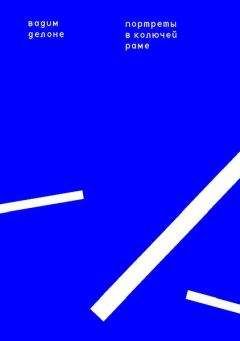– А мираж, это что? Самолет такой, что ли?
– Сам ты дурней паровоза. Мираж – это в пустыне.
– Что в пустыне?
– Ну, когда в пустыне пить хочется. Правильно, политик?
– Правильно, – подтвердил я, – когда пить хочется… – Но думал совсем не про пустыню.
– Да, чудной народ – бабы, – резонно заметил кто-то из мужиков, – у них никогда ничего не разберешь.
– Во как, батя, – ехидно заметил тот чернявый, что звал меня на помощь, – ну ты даешь! Так говоришь, до сих пор и не разобрался. А вот политик, гляди, совсем молодой, а быстро понял, что к чему.
Но «политик» как раз ничего не понимал. Было, конечно, одно странное совпадение фактов. Я вспомнил – в прошлый раз, когда рыжую успокаивали, что по крайней мере всех нас за ее сеанс не расстреляют, Гешка крикнул ей: «Как тебя зовут?», – и та ответила: «Люда». Он снова спросил: «Учишься, что ли, где?» Она помолчала и как-то глухо и раздраженно бросила: «Работаю. На стройке». Других вопросов-ответов не было – это я точно помнил.
И вот дня три назад Гешка Безымянов неожиданно заявился ко мне в барак. Неожиданным его визит показался мне потому, что Гешка, хотя и был «из блатных», но держался всегда особняком, а если и общался, то только с Лехой Соловьем. То ли сильное влияние на него имел Соловей, то ли сам он был по натуре таков, но на мужиках он никогда не выезжал, а напротив, даже лез на скандал, если уж слишком сильно издевались над ними бригадиры или активисты. В отличие от вездесущего отчаянного Егора, он был всегда молчалив и как-то даже на вид меланхоличен, но обладал твердой рукой и удивительной способностью так вставить слово в общий разговор, чтобы все обернулись, как оборачиваются на выстрел. Сроку у него было восемь лет, сидел он по приговору за аварию, но поговаривали, что авария – это только предлог, что посадили его за какие-то крупные дела, о которых он, впрочем, сам никогда не упоминал.
Гешка явился ко мне с обычной просьбой – черкнуть пару строк «заочнице»:
– Вот понимаешь, политик, привязалась какая-то дура, наверное, кто из освободившихся мой адресок ей подбросил, пошутил малость. Мне и сидеть-то еще больше трех, – как всегда сквозь зубы равнодушно проговорил он, – но ты уж напиши, если время будет, а я потом сам через вольных отправлю. Ну а там, сам знаешь, люди свои, сочтемся.
С этим Гешка удалился, оставив меня в некотором недоумении. К тому времени я более или менее успешно вел от разных лиц кипучую переписку примерно с двумя десятками неизвестных мне дам и даже до того запутался, что собирался завести картотеку, поскольку только по очередному ответу смутно мог припомнить, что именно той или иной от лица такого-то писал. Картотеку, впрочем, завести не представлялось возможным, ибо каждую неделю трясли всю зону шмоны, и не мог я рисковать сердечными тайнами друзей. Все это было так, но уж от Гешки я такой просьбы никак не ожидал, памятуя его фанатичную скрытность, а кроме того – грамотность. Ибо школу он успел кончить, правда, уже в колонии для малолеток, да и в бараке я часто заставал его с книгой в руках. Книгу он сразу же прятал под подушку, и поэтому даже я не знал, чем он интересуется.
Итак, к Гешкиной просьбе я отнесся довольно серьезно, хотя он сам, казалось, не придавал ей особого значения. Я даже зашел к нему в барак и шутливо спросил:
– Так что тебе твоя невеста-то написала?
Гешка, по обыкновению невозмутимо, поднялся с нар, порылся где-то, поморщился и заявил:
– Выбросил, кажется. Давай лучше чайку глотнем. Эй, шнырь, – крикнул он, обращаясь к дневальному, – быстро на шухер, чтоб менты не вошли.
Потом вытащил аккуратно завернутый в носовой платок чай. Глотнули по столовой ложке, запили теплой водой. Кровь зашевелилась в жилах и застучала, забормотала, как ручей в ущелье: «Ты жив еще, слышишь, ты жив».
– Так погоди, Гешка, – снова спросил я, – что же я писать-то ей буду в ответ, если я ее послание не читал?
– А напиши что хочешь, – махнул он рукой, – стихи напиши. А то все друзьям-политикам норовишь на волю письма передать. Поймают – срок добавят. Это тебе не Ленин в Шушенском. Он там на зайцев в этой ссылке охотился, а тут того и гляди из тебя самого зайца сделают.
Посмеялись. На прощанье я спросил:
– Как хоть зовут невесту?
– Люда, – все так же безразлично ответил Гешка. Всю ночь меня мучил проклятый фронтит, и хоть стихосложение – не лучший метод борьбы с головной болью, пришлось заняться посланием:
И опять, выбиваясь из сил,
Я срываюсь на сдавленный крик,
Небосвод надо мною так синь,
Хоть совсем на него не смотри.
И опять по ночам, как в бреду,
Я мечусь, равновесье теряя,
На свою уповаю звезду,
А звезда эта тает и тает.
И опять за стенами квартир,
Как по мне, голосят патефоны,
Весь безумный, весь радостный мир
Мне объявлен запретною зоной.
У отчаянья на самом краю
Я качнусь и опять выпрямляюсь,
И как будто в неравном бою,
Не живу я, а выжить стараюсь.
Ты на слове меня не лови
Ради скуки, каприза ради,
Вся душа моя в липкой крови,
Словно губы твои в помаде.
Я устал, как заброшенный дом,
Где-то люди любовь коротают.
Взгляд твой душу берет на излом,
По ночам иногда настигая…
Закончил я послание как раз к подъему и, улизнув от принудительной зарядки и пропустив завтрак, успел занести его Гешке. Над строками стихов красовалась надпись: «Люде от Г. Безымянова» и дата.
– Распишись, знаток Шушенского, – весело сказал я.
– Придется расписаться, не зря же ты старался, да и не в ЗАГСе же расписываться.
Рефрижератор сильно качало. Очевидно, наши водители опять раскисли и давали зигзаги.
– Да, не хватало заплыва с пальбой, – сказал я, – так вот еще и гигантский слалом.
Гешка отозвался с усмешкой:
– Одно успокаивает, что если разобьемся, то и менты вместе с нами, с концами.
Чернявый не согласился:
– Из-за трех ментов всем нам гибнуть! Вот если б наоборот – нас трое, а их восемьдесят, тогда еще можно.
И опять начался спор и обычная околесица, за скольких ментов, чтоб их угробить, умереть можно, а за скольких не стоит. Я опять погрузился в мысли о загадочном появлении Рыжей. Казалось, все совпадает – письмо в стихах и встреча с ней сегодня. Более того, даже имя «Люда». Но все равно это было уму непостижимо. Даже самый глупый детектив свидетельствует о том, что нельзя обращать внимания на первое бросившееся в глаза совпадение фактов. И действительно, кроме «Люда» и «стройка», Рыжая ничего не произносила.