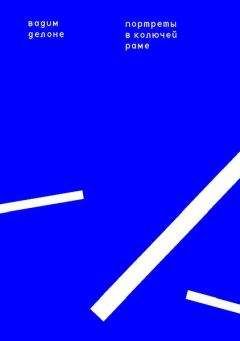– Послушай, шустрый, – обратился я к чернявому, – ты о Ломоносове когда-нибудь слышал?
– Ну слышал, – неуверенно ответил чернявый, справедливо полагая, что я вверну какой-нибудь подвох, – это ученый такой, при царе жил, в школе говорили – из крестьян.
– Правильно, – отметил я, – не при царе, а при императрице Елизавете Петровне в XVIII веке. Так вот в те времена всем ученым и дворянам было велено парики носить с косичкой.
– Ну и что? – недоверчиво осведомился чернявый. – Ты сам говоришь, при Елизавете и велено было.
– Слушай дальше, – оборвал я его, – захожу я как-то в барак к одному пареньку из вашей компании, а он мне фотографию сует, на, мол, погляди. Я посмотрел и спрашиваю: «А зачем тебе Ломоносов сдался, в университет, что ли, собрался?» Он так за голову и схватился. «Как, – орет, – Ломоносов, мать твою так! А я думал, баба такая пухлая, пятый год на это фото дрочу!»
Рефрижератор тряхнуло на этот раз от взрыва неудержимого хохота. Минуты веселья в тюрьме – большая редкость, но если такая минута выпадет, смеются действительно от души. И если ты в застенках потерял чувство юмора – считай, что пропал навсегда.
– Так вот, ежели будешь людей по длине волос определять, тоже можешь впросак попасть…
– Ну что, чернявый, – раздался высокий красивый голос Саньки Арзамасского, – хотел политика уесть, слабо тебе, давно я говорил – книжки читай, а ты шныряешь по зоне без толку, как будто здесь не тюрьма, а золотой прииск!
Санькины слова были весомым доводом, поскольку Санька пользовался у всех большим авторитетом. Был он потомственным вором и сидеть начал лет чуть ли не с двенадцати. Когда он попал к нам на зону, то, несмотря на молодость, имел за плечами три лагерных срока.
– Красиво ты его разделал, политик, – продолжал Санька, – в масть пошел, но не по делу. Я-то в отличие от этой темноты заблатованной кое-что понимаю, хоть сам знаешь – у Ломоносова учиться не приходилось. Ты мне вот что лучше скажи. У нас-то все это как бы и не положено, сам говоришь, преследуют эдаких, но отчего же тогда наши газетки западных хиппи так прославляют? Пишут, что больно сильно их там поприжали, а они, дескать, хорошие, и во всем капитализм виноват. Ну вот ты сам посуди, политик, ты вот постоял на площади Красной с плакатом пять минут, и тебя сразу к нам на три года запроторили. А они там во всех странах американские посольства разнесли. Да и сами-то американцы чуть Белый Дом в красный не превратили, и хоть бы хны!
– Ну, впрочем, кой-кого и сажают, – как-то не совсем уверенно перебил я, – а сидеть-то везде хреново.
– Это, конечно, политик, – кивнул Санька, – сидеть – оно везде несладко, хотя харч у них, я думаю, малость получше нашего, но ведь не в том дело. Мы оба с тобой не из той породы, чтобы только о том и думать, где получше брюхо набить. Да не по душе мне вся эта компания. Война, дескать, им вьетнамская не нравится! А когда наши надзиратели с собачками туда ворвутся, это им понравится? Ты вот скажи, политик, когда наши-то свой порядок там устроят, – лучше будет, что ли?
– Хуже, много хуже, – не то прошептал, не то выдохнул я.
– Ну вот, а ты говоришь – хиппи, – отчеканил Санька. – Видишь, политик, и наши тюменские кое-что понимают, – загалдели блатные.
– Пишут-то, что во Вьетнаме крестьяне за коммунистов воюют, а в Америке безработица, – ни к кому не обращаясь, вдруг объявил Архипыч.
– Крестьяне, говоришь, – презрительно отозвался Санька, – гонят воевать, вот и воюют, поскольку никуда не денешься. Ты вот, Архипыч, тоже отвоевался, засадили за починку трактора, а все за коммунистов голосуешь. А в Америке, между прочим, трактора собственные. Ежели б ты собственный трактор чинил, как думаешь, тебя бы за это посадили или нет?
Архипыч только тяжело вздохнул.
– А насчет безработных вон у бичей спроси. В Америке безработным пособия платят, говорят, мало. А у нас тоже пособие… в виде лагерного срока, небольшой тоже срок дают, но на них хватает.
– Эй, бичи! – крикнул Санька. – Как пособие?
* * *
Бичи угрюмо помалкивали, так как права голоса на зоне не имели. Даже мужики относились к ним с презрением. Хотя презирать их было, собственно, не за что. Было их в одной только нашей зоне несколько сот человек, а сколько по всем лагерным зонам великой Сибири! И все они сидели по закону о тунеядстве или бродяжничестве, хотя были сезонными рабочими, и так или иначе, но где-то трудились, чтобы добыть кусок хлеба. Спившиеся матросы, работяги, сбежавшие со строек светлого будущего, или просто бродяги, не имевшие в этом мире своего теплого угла, – они постепенно опускались. Многим из них наш кошмарный лагерь казался чем-то вроде прибежища. Многие даже по концу срока из зоны не очень-то и хотели выходить. Идти ведь некуда – паспорт волчий, с отметкой, что сидел, родных нет. И все равно скоро опять посадят.
Несколько дней назад двое из этих бичей устроили даже своеобразный протест против своего освобождения. Ничего более бессмысленного, а потому страшного, я за всю свою жизнь не видел.
День их освобождения попал на воскресенье, когда на лагерную зону вместо отдыха обрушиваются всевозможные так называемые общественные работы и бесконечные шмоны. Сколько раз мы проклинали эти воскресенья. А тут еще начали строить всю зону поотрядно, просчитывать по пятеркам, особо тщательно обыскивать. И все из-за того, что два этих поганых бича куда-то исчезли, хотя должны были явиться на вахту и идти восвояси.
Только поздним вечером их нашла охрана в штабелях мусора и гнилых досок. Их долго били. Идти сами они уже не могли, да и жить им оставалось, по всей видимости, недолго. Охрана, если ей дают негласное поощрение, бьет исправно. Бичей тащили по земле. Двухтысячная зона хранила брезгливое молчание. Скольких за этот день обыскали и отняли последнее, что было: запрятанный чай, недописанные письма… и все из-за них.
Два окровавленных полутрупа конвой выбросил за ворота, на волю, на свободу. Мне показалось, что я сошел с ума, что человек не может видеть и пережить такое…
Кто-то тронул меня за плечо. Отрекшийся от «престола», бывший король блатных голубоглазый Леха Соловей смотрел на меня сочувственно:
– Тошно тебе, политик, мне тоже тошно. Пойдем, угощу чифиром.
Мы зашли к Лехе в барак. Он едва заметно щелкнул пальцами, и через три минуты кружка дымящегося запрещенного чайного настоя уже стояла перед нами. Он отхлебнул три ритуальных глотка и передал кружку мне со словами:
– Да, перестарались наши ребята… Ну доносили эти бичи, но ведь не по своей воле, а когда их менты прижимали. Не за досрочное освобождение, как активисты, а за хлеб, за лишнюю пайку. Я говорил блатным этим, не надо их слишком стращать. Но те все грозили. Вот эти двое, очумев от страха, боялись за ворота лагеря выйти, думали – убьют. Да они же – не как этот «Кишка» Миронов, которого Егор вспорол, они никому срок лагерей не продлили, так, по мелочи стучали. Да кто бы стал им мстить! А видишь, испугались. Ну, а конвою только повод дай почки отбить – вовремя освобождаться не пришли… Они же у меня в бригаде работали оба, я им все время кашу свою отдавал, потому как лет пять уже ее не ем, тошнит, да видно, каша не впрок пошла. Долго после такого «освобождения» не проживут. А тебе, политик, жалеть их не следует, это уж наши дела, сибирские…