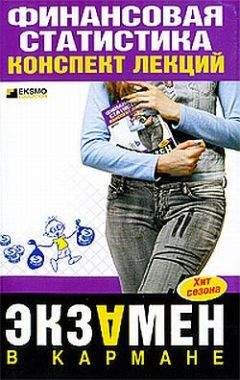Как только выстрелы под лесом и в городе смолкли, калитка сада разлетелась от бешеного удара сапогом, и два бойца с чубами на высшем уровне, увешанные всякой мыслимой военной сбруей и ручными — на обеих руках — часами, ввалились в дом с требованием выдать оружие, которого, конечно, не было, с претензией к отцу, что с его колокольни по ним стреляли. Это была утлая чушь, но никакие резоны не действовали, и отца уже потащили к забору расстреливать, когда, вероятно, по молитвам умершей сестры, его любимицы, воинам попался под ноги стоявший у двери чемодан, оставленный одним из квартировавших во время войны (местность была прифронтовой) офицеров, уехавших так поспешно, что даже замок чемодана не был закрыт как следует. Из чемодана вывалилось целое богатство: кроме всякой мелочи, два френча, отличное галифе и даже целая штука сукна. Герои схватили добычу, потребовали для нее мешок и даже великодушно выдали нам расписку, что дом обыскан и ничего подозрительного не найдено. Подписи были совсем неразборчивы, но все же сослужили мне службу, потому что в эту ночь наш дом посетило 18 пар бойцов. Отправив отца спать (или, во всяком случае, отдыхать и не попадаться на глаза), я сам встречал всех гостей, говорил им, что они уже энные по счету, указывал на разгромленный чемодан и совал под нос пресловутую записку, над которой они откровенно смеялись, но, забрав какой-нибудь пустячок на память, вроде пудреницы с туалетного столика умершей сестры, удалялись. Их сравнительную скромность я понял только тогда, когда мне объяснили, что это был отряд специального назначения для прорывов в глубокий тыл неприятеля и ему особенно обижать местное население не полагалось.
Только к трем часам ночи гости перестали ломиться в нашу и без того поломанную калитку, и я, кое-как закрыв ее, как был, во всей «амуниции» свалился на свою постель и очнулся только на другой день к 12 часам и с удивлением увидел, что постель моя не на месте. Отец очень обрадовался моему пробуждению и рассказал, что утром снова приходили искатели оружия. Гости тщательно осмотрели весь дом, видели следы чужих поисков, но им показался подозрительным мой глубокий сон. Мою кровать, вместе со мной, оттащили к другой стене, конечно, ничего не нашли, а я не проснулся, и «гости» ушли, реквизировав кое-что по дороге.
Первое мое знакомство с «освободительной армией пролетариата» не только уничтожило все мои иллюзии (если они у меня еще были), но до того измотало и утомило, что, едва наступила настоящая ночь, в которую и пугачевцы спят, я, как говорится, «во всей амуниции» плюхнулся на диван и очнулся только в двенадцать часов дня. Очнулся с той приятной негой отошедшей усталости, которая бывает только в молодости. Но прежде чем успел как следует прийти в себя, услышал грохот копыт по булыжной мостовой. Потом так же звучно проскакал всадник в другую сторону, и я сразу же пришел в себя: «Боже! Большевики в нашем городе!»
На солнечную штору окна сразу упала будто ночная тень, и под сердцем гадом свернулась глухая, безнадежная, неисцелимая тоска. Снова эти поиски оружия, в число которого попадают самые, казалось бы, мирные вещи: столовые и чайные ложки, обручальные кольца, браслеты, брошки и даже вышитые полотенца! Снова положение щепки в мельничном водовороте, которую могут и прибить «к стенке», или вдруг подарить ей только что снятые с теплого еще буржуя почему-то не подходящие «герою» часы.
Так или иначе, надо было узнать, что происходит в городе и что случилось с освобожденными от «буржуазного гнета» товарищами. Но после вчерашнего я не хотел оставлять отца одного. По счастью, батюшку позвали к жившему неподалеку рыбаку. Он давно и прочно страдал болезнью, в которой доктора, по пути наименьшего сопротивления, видели на три четверти болезнь нервов и на одну четверть — колит. Но старик применял собственную диету и потому постоянно болел и звал батюшку, чтобы исповедоваться и причаститься перед смертью, и пока что, по той или иной причине, всегда выздоравливал. Накануне внучата наловили ему раков — он их без остатка съел и вот спешно звал батюшку. Не исключена возможность, что ему хотелось потрепаться о событиях, для чего мой отец, человек, в общем, веселый и общительный, весьма подходил.
Так что, проводив отца к рыбаку и попросив его сына задержать батюшку, пока я не вернусь, я направился было в город, но дорогой вспомнил, что забыл документы и снова зашел домой.
Едва я успел закрыть за собой дверь, как в нее настойчиво постучали. С глухим отчаянием я вернулся и открыл. Отягченный всяким мыслимым и даже немыслимым оружием и всевозможными ручными и карманными часами, красноармеец, прислонясь к косяку, шпорой долбил полированный дуб. Когда дверь открылась, он, держа карабин наперевес, долго осматривал меня, а потом даже как будто дружелюбно сказал:
«Документы!»
Уже справляясь с собой, я неторопливо повернулся, чтобы пойти в свою комнату и взять нужные бумаги.
«Ты куды, сволочь?» — вдруг заревел красноармеец, щелкая затвором.
«Взять документы…»
«А на хрен их себе нацепи, свои документы! — опять без всякой злости отозвался красноармеец и разъяснил: — Это я так, для порядку… Малограмотный я… Родители, соленым огурцом им в гроб, за всякое дерьмо шкуру с меня спускали, а насчет грамоты не заинтересовались… Ну, пойдем!» — и он направился внутрь дома.
«Это кто?» — спросил он, ткнув пальцем в портрет в штатском императора Александра III, любимого государя моего отца.
Снять парадные портреты Николая II и Александры Федоровны (в красках — приложение к «Ниве») я все же отца уговорил, но изображение своего любимца («когда русский Царь рыбу удит, Европа может подождать!») отец снять наотрез отказался, тем более, что это была не олеография, а фотография и мало кому известная: Царь был снят в штатском костюме, кажется, в Париже. В общем, человек как человек. Мог быть и родственник.
По этой линии я и пошел и на вопрос красного героя, решив, что теперь не время корове рассказывать о дифференциальном исчислении, кратко ответил:
«Мой дед…»
«Помещик?»
«Чиновник».
«Ну ладно», — лениво согласился красноармеец, продолжая осмотр дома.
В комнате покойной сестры взял гребешок и долго взвивал свой исполинский чуб. Потом испробовал щетку, но вышло, по-видимому, хуже, поэтому щетку он положил обратно, а гребешок спрятал в карман. Затем потребовал опрыскать его одеколоном и сиял, как именинник, пока ландышевый дух окатывал его со всех сторон. Потом, в рассуждении, чего бы еще прибавить к своему великолепию, открыл щипцы для завивки.
«А это что?»