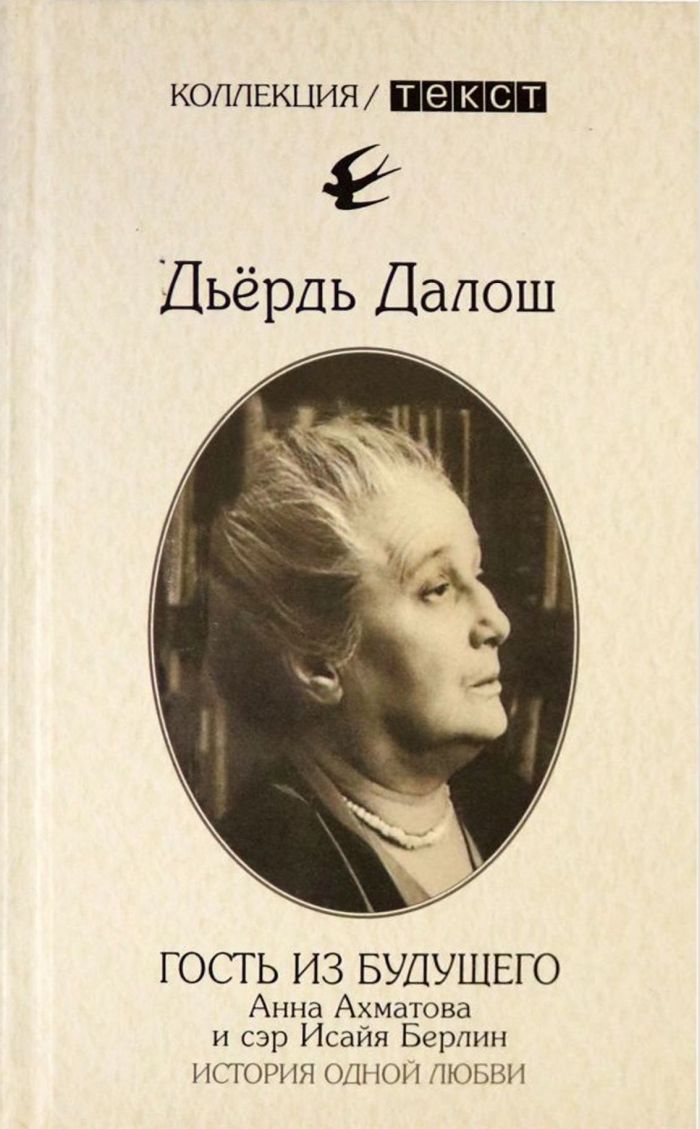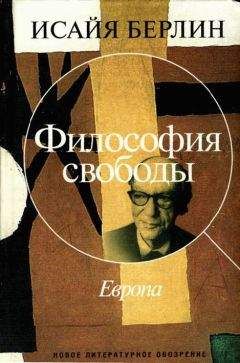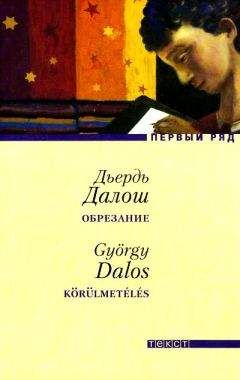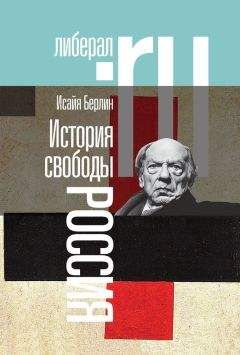тем Постановление 1946 года порождало все новые проблемы. Ведь через два года должна была начинаться работа над вторым томом, включающим букву «3», где были целые две взрывоопасные статьи: «Зощенко» и «Звезда». 8 октября 1964 года тот же Л. Шаумян написал в ЦК еще одно письмо, которым, видимо, хотел предотвратить новые нападки. «Ввиду особой важности вопроса мы не считаем себя вправе давать характеристику этого решения (о журналах „Звезда“ и „Ленинград“. —
Д. Д.) без разрешения ЦК КПСС. Просим ваших указаний».
Проект статьи о журнале «Звезда», приложенный — по-видимому, по совету Суркова — к письму, был написан в весьма радикальном тоне: «„Звезда“ подверглась суровой критике в пост. ЦК ВКП(б) „О журналах „Звезда“ и „Ленинград““ от 16 августа 1946. Постановление правильно ставило перед журналами задачу повышения коммунистической идейности публикуемых произведений. Однако это постановление, принятое под прямым воздействием Сталина, несло на себе отпечаток администрирования в лит-ре и отражало порочную теорию Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Постановление было грубым по тону и содержало необоснованно резкие характеристики отдельных писателей».
В библиографии к статье не упоминались ни доклад Жданова, ни само постановление. Однако неприятие всего, что было связано с культом личности Сталина и что впервые нашло выражение в позиции Хрущева, никогда еще не высказывалось (здесь — применительно к ждановщине) столь решительно.
Центральный комитет — речь идет о чиновниках среднего звена — отреагировал (16 октября 1964 года) на это письмо исключительно сдержанно. Авторы ответа ни единым словом не откликнулись на беспрецедентный выпад против (все еще действующего) документа ЦК; мнение свое они выразили лаконично: «Полагали бы необходимым рекомендовать т. Шаумяну снять из статей „Звезда“ и „Зощенко“ упоминания о Постановлении ЦК ВКП(б) „О журналах „Звезда“ и „Ленинград““». Чтобы подстраховаться, они письменно сообщили о своем ответе серому кардиналу, Михаилу Суслову, который дрожащим почерком начертал на письме: «Можно согласиться. 17.X.64. Суслов». Дата здесь важна: ведь за два дня до этого Пленум ЦК КПСС осуществил новый поворот в истории СССР. Разоблачивший Сталина Никита Хрущев, который в эти дни проводил отпуск в Крыму, в результате бескровного путча был свергнут.
Для того чтобы читатель лучше ощутил всю абсурдность возни, которая была поднята высокими и не очень высокими инстанциями вокруг стареющей поэтессы, я должен упомянуть, что в период, когда бушевала «энциклопедическая война», у советского руководства голова болела от совсем других забот. В октябре 1962 года разразился Карибский кризис, который начался из-за советских ракет, размещенных на Кубе, и едва не привел к третьей мировой войне. В 1963 году разгорелся спор с Китаем и наметился раскол мирового коммунистического движения. Летом 1963 года советское сельское хозяйство пострадало от катастрофического неурожая, и правительство вынуждено было за золото покупать хлеб в США. Москва, прямо или опосредованно, участвовала в разного рода локальных конфликтах: например, во вьетнамской войне, в кипрском кризисе; кроме того, финансировала гигантскую программу обычного и ядерного вооружения.
У партийного руководства с головой хватало дел и в сфере культуры. За относительно короткое время, 17 декабря 1962 года и 8 марта 1963-го, в Кремле состоялись аж две встречи с деятелями литературы и искусства; цель этих встреч заключалась в том, чтобы снова взять под контроль силы, пробудившиеся в процессе пусть скромной, но все же идущей либерализации. В сущности, речь шла о масштабной операции по запугиванию и обузданию всякого рода новых нонконформистов, например художников-авангардистов, кинорежиссеров критического направления, театральных деятелей, авторов мемуаров, а также любителей новых танцев, среди которых главным врагом считался твист. Но все было напрасно: ждановские порядки восстановить больше не удавалось.
Ахматовой было мало дела до литературных сражений. Она по-прежнему отдавала предпочтение «симпатическим чернилам», то есть тайнописи. Например, стихам, напечатанным в «Новом мире» в январе 1963 год, она предпослала эпиграф: «Вы напишете о нас наискосок». Под этой строчкой стояли инициалы: И. Б. Некоторые современники считали, что за этими буквами скрывается покойный русский прозаик, эмигрант, нобелевский лауреат Иван Бунин. Мне же, как это ни странно, в первый момент пришел в голову Исайя Берлин.
В действительности же инициалы И. Б. означали молодого собрата Ахматовой по перу, Иосифа Бродского. Впервые Бродский появился в Комарове в начале августа 1962 года: он пришел к поэтессе с букетом роз, ее любимых цветов. Кроме того, он преподнес ей, хотя и с опозданием, стихотворное поздравление с днем рождения: из этого стихотворения и взята процитированная строчка-эпиграф. Интересно, что ни эпиграф, ни инициалы «И. Б.» в изданиях стихов Ахматовой — во всяком случае, в тех, которые выходили под надзором Суркова, — более не появляются. После судебного процесса над Бродским, его ссылки и лишения гражданства даже такой доброжелательный цензор, как Сурков, не допускал упоминаний опального поэта, пускай и в зашифрованной форме.
Жительницу Будки в Комарове близ Ленинграда посетил, в сопровождении переводчицы Риты, и немецкий журналист Вилли Бонгард. Состоялось это, по всей вероятности, где-то не позднее середины сентября 1962 года: зиму поэтесса проводила чаще всего у московских друзей, а статья Бонгарда была напечатана в гамбургской газете «Ди Цайт» 5 февраля 1963 года. Бонгард показал себя человеком наблюдательным; в начале статьи он пишет: «Любопытно: когда мы подъезжали к ее даче, пожилая дама махала нам из окошка, будто уже ждала нас. Однако об этом и речи быть не могло; было довольно неловко, но я узнал об этом лишь утром того самого дня».
Действительно, у пожилой Анны Ахматовой была такая привычка: она стояла у окна своей Будки и нетерпеливо ждала гостей, даже если те и не предупреждали о своем появлении. Она вообще жила, постоянно ожидая встреч, новых впечатлений. Маргарита Алигер так описывает это ее состояние: «Она любила знать с утра, что вечером кто-то придет. Не забежит мимоходом, а придет в гости на целый вечер, сидеть, пить чай, беседовать. Нервничала, если редко звонил телефон».
Алигер рассказывает об одном случае: однажды, когда Ахматова жила у нее в Ленинграде, всей семье пришлось куда-то уйти. Алигер не хотелось оставлять пожилую даму одну, и она тревожилась о ней. Однако Ахматова стала успокаивать хозяйку: дескать, она даже любит побыть одна. В последний момент Алигер обнаружила, что забыла что-то, и вернулась. И тут услышала, что Ахматова в соседней комнате говорит по телефону. Она умоляла какую-то свою молодую приятельницу, чтобы та немедленно к ней приехала, потому что она совершенно одна. «Она с таким отчаянием повторяла „совершенно одна“, что чувствовалось: для нее это невыносимо». В последние годы ее практически ни на минуту не