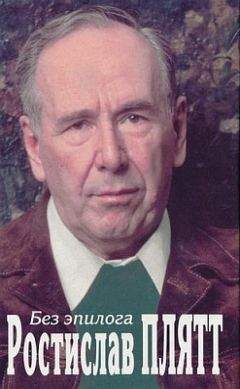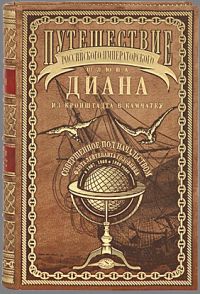Достигнув шестнадцати лет, я должен был получить первое удостоверение личности. Это было делом простым: человек приходил в свое отделение милиции, и с его слов записывали, кто он такой. В связи с этим я давно вынашивал тайные планы: я хотел изменить отчество и удлинить фамилию Плят, которая мне казалась слишком короткой. В мечтах я уже видел себя на афише! А насчет отчества мне почему-то всегда слышалось, как кто-то обязательно иронически произносил: «Эх ты, Ростислав Иванович!» Как же папа не учел этого, тоскливо думал я. И вот явившись в милицию, я в графе «отчество» попросил написать Янович (отец же все-таки по-польски Ян), а фамилию продиктовал с двумя «т». И стал я Ростислав Янович Плятт! Дома я все-таки осторожно доложил об этом, но, кроме недоумения, никаких реакций со стороны отца не последовало. Больше к этому вопросу мы не возвращались.
Тем временем приближалась пора окончания средней школы — начался 1926 год. Совершенно неожиданно Варвара Владимировна сообщила мне, что осенью намечается прием во МХАТ в сотрудники (школы тогда при МХАТе не было) и что на моем месте она бы попытала счастья, а вдруг примут? И учению в вузе это не помешает. Я загорелся ее идеей, наконец открыл родителям свои планы. Ожидаемых проклятий не последовало, родители отнеслись к этому, я бы сказал, либерально: раз это тебя так увлекает — попробуй!
Варвара Владимировна сказала, что поговорит обо мне с личным секретарем Константина Сергеевича, Репсиме Карловной Таманцевой, и что та внесет меня в список экзаменующихся, а координаты Таманцевой я записал.
Ни о каком вузе я уже не думал и лихорадочно решал, что буду читать. Наконец я остановился на монологе Нечаева из «Младости» Леонида Андреева, которую видел раза три во Второй студии, а затем стал готовить чеховский «Разговор человека с собакой». Я тогда довольно удачно имитировал собачьи рычание и лай, а так как в рассказе у собаки много реплик, я решил, что это будет моим козырем. Я заранее побывал у Таманцевой, представился и узнал, что должен позвонить ей в начале октября по поводу дня экзамена. Началось напряженное лето; каждый день я работал над своим «репертуаром». Боже мой! Кажется, я — актер! Ура! Но… надо было кричать не «ура», а — «увы».
Серым пасмурным деньком октября 1926 года томился я в темном углу фойе Художественного театра, и настроение у меня тоже было осеннее — вчера в этом же фойе я экзаменовался и не был принят в группу сотрудников по молодости лет и полной неопытности. И вот сегодня, сейчас режиссер МХАТа Елизавета Сергеевна Телешева должна познакомить меня с Юрием Александровичем Завадским — у него своя студия, мне следует туда поступить и учиться.
— Юра, я покажу вам молодого человека, который длиннее вас! — послышался голос Телешевой, и знаменитая фигура принца Калафа возникла передо мной…
Да, да, начиная рассказ о Завадском, миновать этот его образ из «Принцессы Турандот» положительно невозможно, так же как невозможно не упомянуть и о коллекции его карандашей. Калаф и карандаши… Это стало, так сказать, литературным штампом у всех пишущих о Юрии Александровиче, и не от бедности фантазии, а потому, что… таков уж он! До Калафа им был сыгран в студии Вахтангова Антоний в «Чуде святого Антония», а после — Чацкий в Художественном театре, и там же — Трубецкой в спектакле «Николай I и декабристы». И еще были у него роли. Но триумфальный успех «Турандот», сверкнувшей всего лишь четыре года тому назад (в 1922 г.), все еще волновал память театралов-москвичей и, разумеется, мою юношескую память, затмевая все. Поэтому я видел перед собой именно Калафа!..
Завадский и в жизни выглядел необычно: каштановые, с легкой проседью, кудри (да, были кудри!), особая пластичность движений… И даже коричневая толстовка (достаточно распространенная в ту пору одежда советских служащих) облекала его как некий театральный наряд. Он без особого любопытства, как-то мельком оглядел меня, бросил несколько незначительных фраз и, отложив серьезный разговор до встречи в студии, удалился легким и быстрым шагом, которым отличался всю жизнь, — торопился на репетицию «Женитьбы Фигаро» к Станиславскому. Я поглядел вслед высокой и стройной фигуре, неизъяснимо артистической, и вдруг пасмурное настроение сменилось у меня веселым и праздничным: что-то обещала эта коричневая толстовка, какие-то театральные радости!
Я ее помню с осени 1926 года. А до этого она, оказывается, где только не скиталась два года в поисках помещения… Работала в каком-то постпредстве, в помещении курсов кройки и шитья, еще где-то, и вот Сретенка, наконец, стала ее стационаром, правда весьма необорудованным. Первый этаж занимала сберкасса, на второй вела небольшая лестница, и тут начинались владения студии. А когда-то здесь был паноптикум, показывали женщину с бородой, сросшихся младенцев и прочие неприятные чудеса. Зрительный зал был небольшой, мест на девяносто, а в середине зала почему-то высились две металлические тощие колонны, небольшая сцена и несколько комнат, которые служили и гримерными, и складскими помещениями, и классами для занятий. Очевидно, именно осенью 26-го года и намечалось открытие студии в этом помещении, потому что, когда я поднялся по лестнице, чтобы подать заявление о приеме, я застал генеральную уборку: студийцы, одетые в какие-то робы из мешковины или парусины, скребли, мыли, протирали, подметали…
Заглянув в зрительный зал, я увидел картину поистине эпическую: молодой красавец грузин, атлетически сложенный, подставив мощную спину под большой концертный рояль, ожидал, когда принесут табуретку, заменявшую третью ножку. У рояля, как известно, три ножки, а у студийного их было только две. Этим молодым красавцем был в будущем народный артист Советского Союза Иосиф Михайлович Туманов, или, по-студийному, Бэба. Его жизнь сложилась любопытно. У него были блестящие актерские данные, но он принадлежал к породе людей, дело которых — руководить. Великолепный организатор, с годами он стал ближайшим помощником Завадского по театру, успешно пробовал силы в режиссуре, а потом произошел внутристудийный конфликт. В результате Туманов ушел от Завадского. В дальнейшем он был главным режиссером ряда театров, затем увлекся работой в музыкальном театре, поставил спектакль в оперной студии Станиславского, работал там, стал правой рукой Константина Сергеевича, а после его смерти возглавил Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Последние годы он был главным режиссером Большого театра. Ему равных не было в постановке массовых зрелищ, художественных концертов, фестивалей. Лебединой его песней стала организация Культурной программы летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, восхитившей не только участников Олимпиады и советских зрителей, но и телезрителей многих стран мира.