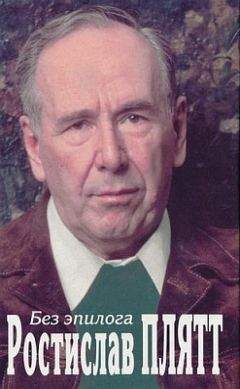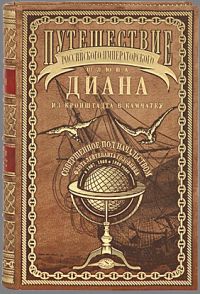А что касается имени Бэба, я, как и все близкие, звал его так всю жизнь, но до сих пор не знаю, производным от чего оно являлось. В студии даже ходили такие стишки:
Глаза и нос —
Великий вопрос.
Вырос до неба,
А все еще Бэба.
В это время Иосиф Михайлович репетировал отрывок из рассказа Джека Лондона «Великий вопрос». Мы с ним были одногодки, быстро подружились, и дружба эта продолжалась всю жизнь. Когда он несколько лет тому назад скончался, с ним ушла часть моей юности.
Однако вернемся к студии. Я был зачислен на испытательный срок, и началась моя жизнь театрального студийца. Заведение наше называлось странно: Драмкурсы Москпрофобра при СОНО п/р Завадского. Студия была бедна абсолютно, и, по-моему, часть педагогов занимались с нами бесплатно по гуманному призыву «Надо помочь Юре!». Это же были его соратники — вахтанговцы Орочко, Наль, Мансурова, Львова, Шихматов…
Много работала в студии артистка МХАТа Вера Сергеевна Соколова. С нами, новичками, старшие ученики Юрия Александровича — Балюнас, Кудрявцева, Чистяков, Преображенский — занимались упражнениями по системе.
К этому времени в студии уже образовался репертуар для так называемых исполнительских вечеров: не будучи театром, продавать билеты за деньги мы не имели права, но могли устраивать такие вот студийные просмотры, на которые приходили друзья и знакомые. На этих, вечерах показывали водевиль (не помню чей) «Два мужа» и горьковские «Страсти-мордасти». А кроме того, уже был приготовлен спектакль «Любовью не шутят» по пьесе Альфреда де Мюссе. В этих показах уже было много серьезных актерских удач. Великолепно играла и в водевиле, и в горьковской вещи А. Н. Кудрявцева, мой первый педагог по отрывкам; старшие студийцы Фивейский и Бродский — в «Любовью не шутят». Я смотрел на них с восторгом и завистью и думал: неужели и я когда-нибудь смогу так играть?!
Случай помог мне двинуться вперед. В 1928 году Завадский решил поставить эксцентрическую комедию Газенклевера «Компас». При распределении ролей выяснилось, что нет исполнителя на одну из главных ролей — Гарри Компаса, сына миллионера, пижона и прощелыги. Я уже года два учился в студии, Завадский меня помнил и решил рискнуть, взяв на эту роль. Играл я там, в сущности, самого себя, только пришлось научиться танцевать модный тогда чарльстон. Думаю, что мое появление спектакль не украсило, но и провала не было, очень уж подходили мои внешние данные. Для меня этот случай имел огромное значение: я впервые репетировал с Завадским, овладевал очень острым рисунком роли, привыкал к сцене, к общению со старшими партнерами, приобретал некоторую технику.
В это время резко изменилась судьба студии: она была принята в ведение Главнауки с правом называться театром. И вместо «Драмкурсов при СОНО» в Москве появился новый театр — Московский государственный театр под руководством Ю. А. Завадского. А в 1931 году было получено и новое помещение — подвал в Головином переулке, где сейчас филиал Театра имени Маяковского. Да, это уже был театр, о чем возвещало окошечко кассы, встречавшее зрителя на площадке лестницы, ведущей в подвал. Зрительный зал — настоящий, мест на пятьсот с лишним, имелось большое фойе и достаточное количество помещений, необходимых театру. В общем, не Бог весть что, но после нашего «паноптикума» — дворец! Официально мы открылись осенью 31-го года премьерой — пьесой И. Штока «Нырятин». Было празднично, Мейерхольд торжественно разрезал ленту. Однако я сильно забежал вперед.
Жили мы по принципу, заведенному еще Вахтанговым в Мансуровской студии, — все делать своими руками. Каждый из нас отвечал за определенный участок работы. Много хлопот было с гардеробом для зрителей — в студии он вообще отсутствовал. Во-первых, нашли для него место, а во-вторых, сделали его. Теперь мы могли принять около ста зрительских пальто. Гардеробщиками, разумеется, стали студийцы.
Потолки у нас были высокие, и в одной из комнат мы сделали полати с приставной лестницей — там могли гримироваться четыре человека. А экономить площадь было необходимо, так как в этой же комнате много места занимал большой «ворчун», полый внутри деревянный ящик. Ударяя по нему специальной битой, наш талантливый студиец В. Пикунов создавал и гром, и артиллерийскую стрельбу.
Жизнь на испытательном курсе мы воспринимали как досадную неизбежность, которую надо вытерпеть, чтобы наконец-то получить право на игру в отрывках, а там, глядишь, уже и ролями запахнет! Но мне упражнения по «системе» нравились — тренировали фантазию. Скажем, этюды на оправдание поз: по хлопку надо было принять любую позу, а затем ее оправдать. Был у нас один ученик. Он после хлопка всегда застывал в одной и той же позе — руки подняты кверху, а затем, соединив кисти, начинал «колоть дрова». Ему попадало за вялость его фантазии, но безрезультатно. Так «поколов дрова» около года, он был отчислен. Был у нас другой ученик, блистательно делавший упражнения с несуществующими предметами. Например, отвинчивал свою голову, протирал ее и затем надевал обратно. Но когда курс подошел к отрывкам, выяснилось, что со словом он сладить не может. Попытки научить его говорить на сцене ни к чему не привели. Вот такие проблемы иногда встают перед педагогом: кажется, появилась жемчужина на курсе, надежда студии, блестит на всех упражнениях, а подошли к отрывкам — не актер.
Для меня лично студийные годы примечательны тем, что я яростно увлекся «внешней» театральностью (я имею в виду время, когда уже был допущен и к отрывкам, и к ролям). Господи! Чего только, я не делал, изобретая гримы, походки, интонации! В одной роли я большими мохнатыми усами совершенно закрыл свой довольно крупный нос с горбинкой, вклеив усы в том месте, где горбинка начинается. Это совершенно деформировало лицо, но, к моему удовольствию, возникла не маска, а живой облик какого-то усача. Странным образом все впечатления и потрясения, накопленные мною на спектаклях МХАТа, куда-то отошли… Я с наслаждением ринулся в веселый мир эксцентрики, театрального озорства, резкой характерности. Внешнее перевоплощение казалось мне обязательным. Старика растратчика из пьесы Дэля «Пьяный круг» я играл с наклеенной нижней губой, беззубым, шепелявым, сладостно напевающим: «Раш три богини шпорить штали…» В роли бузотера в спектакле «Проба» по пьесе Колосова и Герасимовой я надевал толщинку, делавшую мой тощий торс атлетически мощным, нос «курносил», подтягивая его ленточкой, смазанной лаком, чуть не до бровей, а говорил на этот раз сиплым басом.
В «Нырятине», в роли нэпманского сынка Илюшки, Юрий Александрович загримировал меня так: очень низкий лоб, прилизанные черные волосы, подбритые брови, жирный грушевидный нос, висевший книзу. А говорил я, еле ворочая толстым языком и пришепетывая: «Ефть возможность уефать в Москву, в шледочном вагоне». Растратчик, бузотер Илюшка…