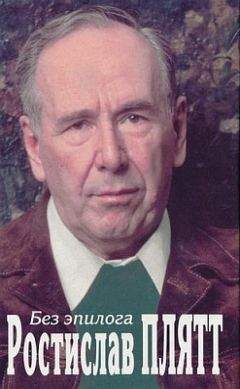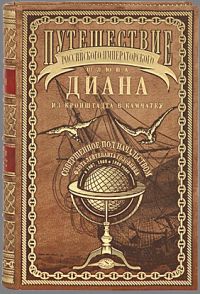В «Нырятине», в роли нэпманского сынка Илюшки, Юрий Александрович загримировал меня так: очень низкий лоб, прилизанные черные волосы, подбритые брови, жирный грушевидный нос, висевший книзу. А говорил я, еле ворочая толстым языком и пришепетывая: «Ефть возможность уефать в Москву, в шледочном вагоне». Растратчик, бузотер Илюшка…
Я испытывал восторг при мысли, что, если, допустим, были бы записаны на пленку мои реплики из этих трех ролей, никто бы не сказал, что это говорит один человек. Или если бы выложить рядом фотографии этих трех ролей, никто не поверит, что на всех трех — Плятт. Кстати сказать, играя Гарри Компаса, я страдал от того, что не нужно гримироваться: я только надевал большие роговые очки и говорил своим собственным голосом. Ужасно!
Завадский до поры до времени давал нам полную свободу и приглядывался к каждому из нас, с тем чтобы в нужный момент застопорить или, наоборот, благословить наши поиски. Фантазии актера он придавал большое значение и всегда поощрял образные поиски, но только те, которые были органичными для данного актера, наигрыш изгонялся беспощадно. В нашем расписании был день, который назывался (сегодня и написать-то страшно) «Ищем гримы». Обычно он назначался незадолго до начала генеральных репетиций, но вызывались все, а не только занятые в будущем спектакле. С утра мы сидели у зеркал, снабженные вазелином, пудрой, лаком и тряпочками для снятия грима. А затем появлялся Ю.А. в белом халате, с коробкой личного грима и гримировальными кистями в руках. Искусством грима он владел в совершенстве, очень любил пользоваться «строительным материалом» — париками, бровями, усами, бородами, гуммозом. Иногда несколькими штрихами он преображал актерское лицо, и я многократно бывал свидетелем того, как удачно найденный грим ускорял приближение актера к желаемому результату. Ну, о гриме мы еще поговорим. А вообще, суммируя воспоминания о студийных годах, я думаю, что наше увлечение внешней театральностью, еретическое по отношению к школе Художественного театра, в рамках которой старались нас воспитывать, имело и свою пользу — приучало к образному поиску, видению.
В книге А. Д. Попова «Воспоминания и размышления о театре», вышедшей в 1963 году, есть такие слова: «Главное, над чем сейчас необходимо серьезно задуматься, — это пренебрежение к эмоциональной и образной основе сценического искусства, которое пришло за последние годы на сцену». Слова эти вызваны его мыслями об игре актеров «Современника», где был культ правды и естественного поведения на сцене в первую очередь. Уж этот-то упрек к нам не относился.
С нежностью вспоминаю своих ближайших товарищей-студийцев. Митя Фивейский! На мой взгляд, первый талант студии. Коренастый, прочно скроенный, с красивым лицом, он мог играть все: был героем-любовником в «Пьяном круге» и в водевиле «Два мужа», комиком-буфф в роли аббата Блязиуса в «Любовью не шутят», острохарактерным актером в роли банкира Компаса. Он был мало образован и не очень начитан, но интуиция вела его к таким тонкостям в постижении образа, что, бывало, смотришь на него в роли, скажем, того же Компаса и диву даешься — где взял он все это?!
В Компасе он был неузнаваем. Юрий Александрович великолепно загримировал его в стиле рисунков Гросса. Лысый парик, переходивший в жирную шею, орлиный нос, солидные роговые очки, сигара во рту — все. Ни бровей, ни морщин, лицо совершенно чистое, младенчески розовое, возраст давала полированная лысина; мощный торс, облаченный в светло-серую визитку, лакированные туфли с белыми гетрами, котелок. Хрипловатый диктующий голос, манера носить себя, минимум жестов… Ну, скажете вы, знакомый по плакатам буржуй, «акула мирового империализма»! Да, и это, но — абсолютно живой характер, очень точная жизнь в образе! Фивейский легко и свободно существовал в чужой оболочке, сделав ее своей; он играл, я бы сказал, с аппетитом, как уверенный мастер, а было ему каких-нибудь двадцать три — двадцать четыре года. Он отыскал какую-то тирольскую песенку; языка он, конечно, не знал, но нюхом почуял, что она идет Компасу, и вставил ее в роль, найдя подходящее место. Текст у песенки был абсолютно дурацким: «Если собака здорова — это здорово для собаки», и тирольская припевочка «Холля-рье, холля-рье!». Он выучил ее по-немецки и, окутанный сигарным дымом, напевал в финале спектакля.
Он был моим закадычным другом, самым близким человеком. Нас сблизила еще и наша любовь к розыгрышам, юмору, в общем, озорство. Одно было плохо — у него стал развиваться процесс в легких, чему способствовал и «климат» нашего подвала. Он поздно начал лечиться, запустил болезнь. Тем не менее поехал с театром в Ростов, много играл, а во время наших гастролей в 1938 году в Ленинграде и Москве решил не возвращаться в Ростов. По личным причинам ему надо было уйти из театра, и с тех пор он стал актером Театра имени Ермоловой. Там он успел сыграть много ролей, но болезнь взяла свое, и в 1973 году он скончался.
Люсик Пирогов — сын знаменитого баса Григория Пирогова, прекрасный характерный актер. По имени-отчеству он был, естественно, Леонид Григорьевич, но для нас всех — Люсик. Он стал уже премьером в детском театре у Наталии Сац. Но там репертуар ограничивал его возможности. Вот он и явился к нам, быстро освоился, вошел в репертуар и в «Волках и овцах» дублировал Абдулова в роли Лыняева. Любопытно, что у него, как и у всех Пироговых (вот порода!), был небольшой басок, и если бы он стал его развивать, возможно, и его бы поглотила опера. Во всяком случае, когда он показывал отца, подражая ему, и, становясь очень на него похожим, начинал петь, какие-то фразы звучали вполне вокально. В Ростов он поехал с театром. Потом куда-то исчез, но в конце 40-х годов вернулся под крыло Завадского, поиграл несколько сезонов и ушел в кино.
Толя Кубацкий, или, как мы ласково называли его, Кубик, — обаятельный, мягкий, изящный актер, очень музыкальный: Из всей нашей компании он один умел играть на рояле и поэтому нещадно эксплуатировался. Это я запечатлел в своих стихах, написанных в духе Игоря Северянина:
Я помню двухколонный зал
С овиноградненною сценой,
Где дух студийный восплясал,
Обрызгав все веселье пеной,
Откуда изгнана печаль,
Где, прироялен нашей волей,
Волнуя сломанный рояль,
Гремит Кубацкий Анатолий.
Я не люблю вспоминать поставленный в 32-м году интересный спектакль Завадского «Мое», потому что в нем я провалил свою роль, но по сей день в моей зрительской памяти живут две миниатюры Кубацкого в этом спектакле. Он пел «Кати, кати, карета», сообщая движение колесам бутафорской кареты, и затем песенку «Я зажигаю лампы в зале суда…». И это было так выразительно, что я и сегодня могу повторить и слова и мелодию. Позднее мы с ним оказались в центре неприятного инцидента. В театральной стенгазете мы резко выступили против дирекции театра; дело пошло по инстанциям, мы возмутились и ушли из театра. Я, правда, через год вернулся, Кубацкий — нет! Милый Кубик! Пожалуй, из всей нашей компании только мы и остались пока на белом свете.