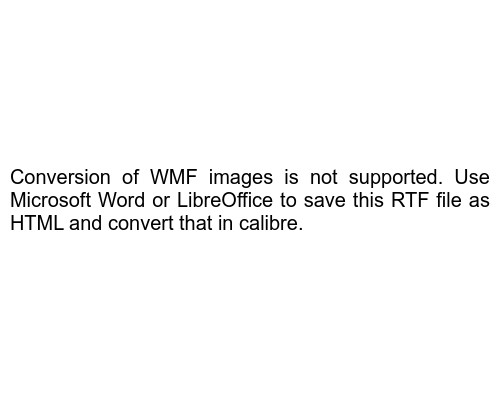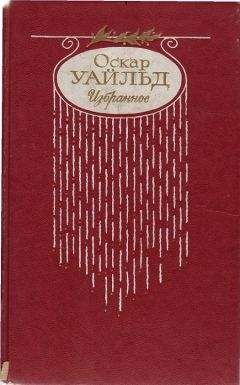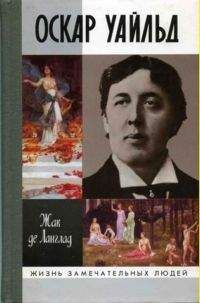дала мне тонкий ломтик белого хлеба с маслом. Фрэнк, я никогда этого не забуду. У меня слюнки потекли - я так отчаянно проголодался, а это было так вкусно, я так ослаб, что расплакался, - Оскар закрыл глаза руками и начал глотать слёзы.
- Я никогда этого не забуду: охранник был так добр. Я не хотел ему говорить, что голодаю, но когда он ушел, я собрал крошки с простыни и съел их, а когда больше не мог найти крошки, перекатился к краю кровати, собрал крошки с пола и их тоже съел. Белый хлеб был так вкусен, а я был так голоден.
- А сейчас? - спросил я, больше не в силах это выносить.
- О, сейчас, - Оскар попытался изобразить веселье, - конечно, всё было бы хорошо, если бы не забирали мои книги. Если бы мне позволили писать. Если бы мне позволили писать, как мне того хочется, я был бы вполне доволен, но меня наказывают по любому поводу. Фрэнк, зачем они это делают? Почему они хотят превратить мою жизнь здесь в одно бесконечное мучение?
- Ты немного оглох с тех пор? - спросил я, стараясь уменьшить горечь невыносимой жалости.
- Да, - ответил Оскар, - на это ухо, на которое я упал в часовне. Должно быть, повредил барабанную перепонку - всю зиму болело, часто немного кровоточило.
- Но тебе могли бы дать вату или что-то, что можно засунуть в ухо? - спросил я.
Оскар вяло улыбнулся:
- Если ты думаешь, что кто-то решится беспокоить врача или охранника из-за боли в ухе, ты мало что знаешь о тюрьме: за это придется расплачиваться. Послушай, Фрэнк, сколь бы сильно ни был я болен, - тут Оскар перешел на шепот и осмотрелся по сторонам, словно боялся, что его подслушивают, - сколь бы сильно ни был я болен, мне никогда не приходило в голову попросить послать за врачом. И не помышлял об этом, - сказал Оскар в ужасе. - Я выучил тюремные правила.
- Я устрою бунт, - закричал я. - Почему ты позволяешь, чтобы твой дух сломили?
- Если будешь бунтовать, тебя тут быстро сломают. Кроме того, всё это присуще Системе. Система! Никто снаружи не знает, что это значит. Боюсь, это - старая история, история жестокости людей по отношению к ближним.
- Думаю, я могу тебе пообещать, что система немного изменится, - сказал я. - У тебя будут книги и письменные принадлежности, тебе не будет каждую секунду грозить наказание.
- Будь осторожен, - Оскара душил ужас, он положил руку на мою. - Будь осторожен, меня могут наказать еще серьезнее. Ты не знаешь, что они могут сделать, - моя душа пылала от возмущения.
- Пожалуйста, никому не говори, что я тебе рассказал. Пообещай, что никому ничего не скажешь. Пообещай мне. Я никогда не жаловался, - волнение Оскара вырвалось наружу.
- Хорошо, - ответил я, чтобы его успокоить.
- Нет, пообещай мне серьезно, - повторял Оскар. - Ты должен пообещать. Я тебе доверился, то, что я тебе рассказал - конфиденциальная информация, - Оскар был так испуган, что потерял самообладание.
- Хорошо, - сказал я, - никому не расскажу. Но я получу информацию от других, не от тебя.
- О Фрэнк, - сказал Оскар, - ты не знаешь, на что они способны. Тут есть наказание похуже, чем пытки, - Оскар лихорадочно шептал, закатывая глаза. - Фрэнк, тут могут лишить рассудка за неделю.
- Лишить рассудка! - воскликнул я, думая, что ослышался, но Оскар был бледен и дрожал.
- Ну а какие у тебя охранники? - спросил я, чтобы сменить тему разговора, я чувствовал, что этими ужасами уже сыт по горло.
- Некоторые добры, - вздохнул Оскар. - Тот, что сопроводил меня сюда, так добр ко мне, мне хотелось бы что-то для него сделать, когда отсюда выйду. Он человечен. Не гнушается говорить со мной, объяснять, но некоторые в Уондсворте были такими скотами...Не хочу о них больше думать. Я заклеил эти страницы, никогда больше не проси меня разрезать их снова, я не решусь открыть эту книгу, - жалостливо воскликнул Оскар.
- Но ты должен рассказать всё, - сказал я, - может быть, именно такова цель твоего пребывания здесь, самая главная цель.
- О нет, Фрэнк, никогда. Лишь человек безгранично сильный мог бы, попав сюда, написать честный отчет обо всем, что здесь с ним произошло. Не думаю, что ты смог бы, вряд ли кому-то хватило бы сил. Один лишь голод и расстройство желудка способны разрушить любой организм. Все знают, что у тебя расстройство и что ты голодаешь, ты при смерти. Вот что такое два года каторжных работ. Тяжелы не работы. Это условия существования делают работу каторжной, убивают тело и душу. А если будешь сопротивляться, тебя лишат рассудка... Но, прошу тебя, никому не рассказывай, что я тебе рассказал, помни - нельзя!
Меня терзало чувство вины: его настойчивость, его судорожный страх говорил о том, как он страдает. Он был вне себя от ужаса. Я должен был навестить его раньше. Я сменил тему разговора.
- Оскар, тебе нужны письменные принадлежности и книги. Заставь себя писать. Выглядишь ты сейчас лучше, чем раньше, глаза горят, кожа на лице чище.
В его взгляде вновь вспыхнула прежняя улыбка, проблеск бессмертного юмора.
- Фрэнк, я отдыхаю на курорте, - Оскар слабо улыбнулся.
- Ты должен вести заметки об этой жизни настолько подробно, насколько сможешь, о том, как это всё влияет на тебя. Да, тебя победили. Напиши у них на лбу медным купоросом, что они - бесчеловечные твари, как сделал когда-то Данте.
- Нет, не могу. Не буду. Я хочу просто жить и всё забыть. Не могу, не решаюсь, у меня нет силы Данте или его горечи обиды, я - древний грек, родившийся несвоевременно, - наконец-то Оскар произнес истину.
- Я снова тебя проведаю, - сказал я. - Могу ли я еще что-нибудь для тебя сделать? Я слышал, жена к тебе приходила. Надеюсь, ты с нею помирился?
- Фрэнк, она пыталась быть доброй ко мне, - мрачно сказал Оскар, - думаю, она была добра. Она, должно быть, страдала, мне так жаль..., - чувствовалось, что он не хочет ни с кем делиться своим горем.
- Неужели я больше ничего не могу для тебя сделать? - спросил я.