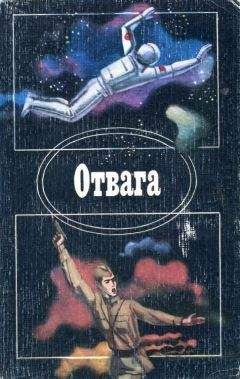же слетался вожаком местной молодежи и вскоре председателем волостной ячейки РКСМ — 14-летним секретарем райкома комсомола по более поздним стандартам, хотя в ячейке, разумеется, состояло всего несколько человек. А затем, с 4-классным образованием, был отправлен в 1920 г. в Комвуз (проще говоря, в областную партшколу) в Саратов.
На протяжении нескольких последующих лет учебы часто бывал в Ладе на каникулах, горячо отстаивал интересы крестьян перед местной бюрократией (он стал к 18 годам кандидатом в члены партии, а это по тем временам было повыше нынешнего олигарха) и поэтому сделался всеобщим любимцем седа. И оставался им при частых наездах в Ладу до конца своей жизни. Отблеск этой поистине всенародной любви районного масштаба постоянно падал на меня, как на его сына, при каждой моей поездке в Ладу, вплоть до 70-х годов, когда я, в отчаянии при виде агонии села, перестал ездить туда. Впрочем, его любили везде, где он жил и работал.
Со своей стороны. Ладу он любил даже больше, чем я, хотя больше, казалось бы, невозможно. Лада была средоточием его помыслов, предметом страсти, объектом радостей и горестей. Он мог часами рассказывать или слушать о ней, посвящал ей бесчисленные стихи, декламировал своего любимого Есенина так, словно тот был родом не из Константинова, а из Лады. И полностью передал эту Большую Любовь мне — увы, не далее.
Именно во время приездов на каникулы в Ладу познакомился там с сельской учительницей. Как положено по давней семейной традиции — ровно на четыре года старше себя и намного сильнее характером. Однако, вопреки традиции, выше по социальному положению: «городская», а не «деревенская», мало того — из мещан, а не из крестьян, с гимназическим образованием, две старших сестры из трех — за инженерами-чиновниками. Влюбился в нее, устраивал с ней вместе агитспектакли в местном клубе, провожал домой, декламировал стихи и в конце концов уговорил выйти за него замуж. Как раз в это время его, 18летнего студента, приняли кандидатом в таены РКП(б), а в 1924 г. он стал членом партии — номенклатурой губернского уровня. Окончив Комвуз, получил назначение управляющим сельхозснаба в Майкоп. Куда поехал и я — правда, в комплекте с беременной матерью. До меня была еще Вероника, но она умерла до моего рождения.
Из Майкопа отца в тот же год на ту же должность перевели в Симферополь, где я фигурировал уже в пеленках, причем вниз головою, спешно вынесенный нянькою при страшном крымском землетрясении 1927 года, так красочно описанном Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях». Через несколько месяцев его с семьей перебросили в Вологду, затем опять ненадолго в Симферополь и, наконец, в Казань, где он начальствовал больше года. Как я теперь понимаю, у него, вдобавок к природному добродушию и жизнерадостности (от его отца), обнаружились незаурядные организаторские способности, и его бросали с места на место, чтобы наладить дело и бежать налаживать следующее. Никаких иных стимулов для столь частых переездов не было и быть не могло — всюду работа и жилье были примерно одинаковые.
А работа должна была быть интереснее интересного. Ведь тогда на четверть сотни миллионов крестьянских хозяйств приходилось в среднем примерно столько же лошадей, и лишь меньшинство были с плутами, большинство — с сохой и бороной вековой давности, а сеяли, как и тысячелетие назад — рукой из лукошка. Несколько сот колхозов и совхозов, уцелевших из нескольких тысяч, созданных в 1918 г. и справедливо названных Лениным «богадельнями», влачили жалкое существование нищенских островков в океане единоличного сельского хозяйства. И вот в этот «океан» с «островами» надлежало запускать растущие партии сельхозтехники — поначалу, естественно, импортной: тракторы, плуги, сеялки, бороны, веялки и пр. Одно из первых моих детских впечатлений в Симферополе 1929 года — ярко-зеленый трактор с ярко-красными ободами колес и звучным именем, запомнившимся на всю жизнь: «Фордзон». Это напоминало превращение конной армии в танковую и, понятное дело, требовало талантливых организаторов. Особенно с учетом того, что техника XX века переходила в руки крестьян XIX, а во многом и XVIII века.
И при этой безумной чехарде он успел еще несколько месяцев отслужить в армии. Правда, тогда красноармеец — член партии был такой же диковиной, как сегодня, скажем, министр — дневальным в солдатской казарме. На собраниях партячейки он сидел на равных с командиром и комиссаром полка. И, естественно, не признавал никакой дисциплины. По его рассказу, когда явился однажды ночью прямо с постели по срочному вызову к командиру не в положенной форме, а в шинели, накинутой прямо на исподнее и в калошах на босу ногу — тот сначала впал в состояние, близкое к обмороку, а наутро написал незадачливому партгусару увольнительную от дальнейшего прохождения службы. Так и остался отец, если верить его красноармейской книжке, «рядовым необученным». Больше его к армии близко не подпускали.
* * *
Но каким бы талантливым организатором ни был отец, на четырех классах образования в государственных масштабах далеко не уедешь. А ведь у нас почти все вожди-учителя до Хрущева включительно (до 1965 года!) застряли в лучшем случае именно на этом рубеже просвещения. С соответствующими кошмарными последствиям! для судеб страны, начиная с армии и кончая сельско-городским хозяйством. Потому что партшколы разного рода, которые они добавляли к своим церковно-приходским, никакого отношения к собственно образованию не имели. Да они и сами, при всем гоноре на трибунах, сознавали глубину своего невежества. Поэтому в начале 30-х годов было принято решение, по драматизму своему сопоставимое с посылкой Петром I боярских детей на учебу за границу: отобрать из членов партии тысячу наиболее способных к учебе («парттысяча») и отправить их в вузы, как обычных студентов.
Можно себе представить, что это означало для «большого начальника» со спецпайком и служебной квартирой, привыкшего самодурствовать в своей вотчине, не отказывая себе ни в чем. И хотя стипендия была повышенная, и в комнатах общежитий «парттысячников» расселяли семьями, а не вповалку, как обычных студентов — все равно это было равноценно разжалованию генералов в рядовые. Поэтому направляли принудительно — «в порядке партийной дисциплины», как на фронт. И партвзыскания за неуспеваемость были драконовские. Хотя, конечно, отсев при уровне культуры таких «студентов» не мог не быть огромным. Ведь им предстояло за год окончить шесть классов средней школы (в дополнение к своим четырем начальной) и затем садиться на студенческую скамью рядом с абитуриентами-десятиклассниками. Очень жалею, что долго не понимал этого и не упросил отца много позже написать об этом подробнее. Ведь мы знаем об этой драме только по комедии