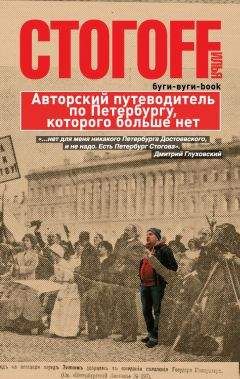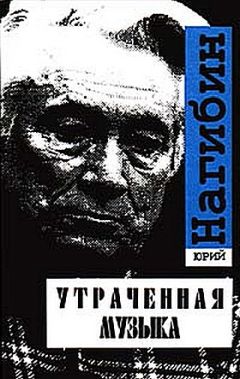Заподозрить Ульянова в передаче непроверенных сведений, пустых слухов невозможно. Для этого он был слишком серьезным человеком и слишком уважал своего собеседника. Да и Кругликова, сопровождавшая Голубкину в Москву после перенесенного той потрясения, обронила несколько слов, позволявших догадываться о случившемся.
Пушкин говорил, что в человеке выдающемся все интересно, нет такой малости, которая не была бы важна. А тут сумели изъять из биографии Голубкиной столь большое и трагическое, как единственная за всю жизнь любовь, приведшая не только к двукратной попытке самоубийства, но и к одиночеству на все оставшиеся дни, к бессемейственности и бездетности. А ведь Голубкина безмерно любила детей — сколько щемящей нежности вложила она в детские портреты: «Санчета», «Манька», «Девочка» (Татьяна Российская) и в такие глубокие символы, как «Вдали музыка и огни» — горельеф с тоскующими мальчиками, как пронзительна «Кочка», запечатлевшая крестьянскую легенду о неприкаянных душах некрещеных детей, которых не принимает ни рай, ни ад, и они обречены на вечные скитания в пустынности мироздания, находя приют под болотными кочками, как «Ребенок» — возникающее из предбытия новое мудро-печальное существо, как мальчики в композиции «Пленники» и девочки — в «Спящих».
И мужская плоть влекла Голубкину, она не была схимницей, не стремилась извести свою физическую суть, хотя нередко в работе забывала об обеде и ужине, не принадлежала к свите Сафо, но после пережитого наложила вето на женскую жизнь. А в пожилом возрасте декларировала необходимость для художника отказа от семьи, любви, детей.
Мы живем в эпоху, когда бесстрашный Ве́нец[2] отменил все табу ханжества и лицемерия, мы знаем, какое значение имеет пол в жизни человека, но мы лишены возможности постигнуть феномен Голубкиной, потому что «хранители ее доброго имени» сделали все возможное, чтобы изгладить память о трагическом сломе, который многое мог бы объяснить нам и в человеке, и в творце.
А как тосковала она по детям, видно не только по ее скульптурам, но и по страстной привязанности к племянникам, по отвислым карманам старого темного пальто, набитым леденцами для дворовых ребятишек, когда у самой-то не было на ржавую селедку, по тому, что каждое маленькое существо, на которое она натыкалась, немедленно становилось ее другом. И один печальный случай поздних лет красноречиво говорит о том, к чему может привести задавленное материнское чувство.
Анна Семеновна пригрела стайку чумазых оборванцев — это было после революции, когда угрожающе распространилось беспризорничество, — пустила их на чердак, давала им еду, кое-какую одежонку и заронила в иззябшие и очерствевшие души подозрение о своем сказочном богатстве. Беспризорники подсунули ей тяжелое снотворное, обчистили бедный дом и скрылись с жалкой добычей. По счастью, доза снотворного оказалась слишком велика — перестарались простые души — и оттого не смертельна. «Ах, шуты! — опамятовавшись, сокрушалась Анна Семеновна. — Сказали бы, все бы им сама отдала!» «Шуты» — было ее излюбленным бранным словом. «Ах, шуты!.. Вот шуты!..» — приговаривала Анна Семеновна, разумея служителей самой молодой музы во время своих редких посещений кинематографа.
Чего же добились хранители доброго имени Анны Семеновны Голубкиной? Почитайте все написанное о ней — увы, это не займет много времени, — и у вас возникнет прекрасный образ художника подвижнической чистоты и цельности, а в человеческом плане — почти монстра. Никогда взгляд ее не останавливался с любовью ни на одном мужском лице, никогда не забилось волнением сердце, не пресеклось дыхание, не взблеснули радостью, не затуманились слезами глаза. И как настойчиво поминается длинная темная юбка и белая кофта — пожизненная униформа Анны Семеновны, да еще грубый фартук во время работы и облысевшая до мездры шубейка. Но есть парижская карточка, где она снята вместе с четырьмя русскими художницами — меж них Кругликова — и с горбачом Борисовым-Мусатовым. В большой, как цветочная клумба, по тогдашней моде шляпе и темном облегающем платье, она выглядит элегантно и романтично. Значит, был и такой образ Анны Семеновны. Вспоминая о парижских днях, художница Н. Я. Симанович проговаривается, что Анна Семеновна придавала значение одежде и радовалась хорошей вещи. Вспомним ульяновский портрет Голубкиной, отличающийся, по мнению всех знавших ее в молодости, удивительным сходством: как хороша она и женственна! Мужеподобность, пергаментная серо-прокуренная кожа, костлявая фигура — это все куда позже, когда давно уже был поставлен крест на женской жизни. А в Париж приехала русская девушка редкой выразительной красоты — она перешагнула за тридцать, но не стала векшей, перестарком, сохранив во всем облике нежно, нетронуто девичье. Душа у нее отставала от разума и характера — неискушенная, доверчивая, наивная и незащищенная. Но проснувшаяся для любви. Все соученики Голубкиной по академии знали о ее «тайне» — влюбленности в скульптора профессора Беклемишева с внешностью Христа и странным внутренним устройством, позволявшим сочетать мистицизм с академической рутиной. Гимназическая упоенность чувством к учителю не мешала Голубкиной отчетливо и холодно видеть всю слабость Беклемишева как наставника и скульптора, и она без сожаления оставила его мастерскую.
Она и думать забыла о Беклемишеве, когда в Париже ее соученицы принялись назойливо обшучивать этот никогда не бывший роман. Скучно им, что ли, было, этим вовсе не плохим женщинам, приютившим Голубкину, облегчившим ей первые шаги в чужом городе, или простота и чрезмерная серьезность зарайской огородницы невольно толкали к розыгрышам и шуткам, вполне безобидным, относись они к человеку, не столь прямолинейному и ранимому. Анна Семеновна взорвалась, глупые шутки обернулись серьезным конфликтом, затронувшим всю русскую художественную колонию. Пришлось вмешаться Борисову-Мусатову, замечательному художнику и чистейшей души человеку, и пустить в ход весь свой моральный авторитет.
В литературе о Голубкиной исход разыгравшегося скандала как-то замазан, а в устной легенде считается, что насмешки и подковырки молодых художниц послужили причиной двукратной попытки самоубийства Голубкиной.
Спасенную от смерти, но нервно разбитую Анну Семеновну привезла из Парижа Кругликова — одна из шутниц. Трудно, невозможно поверить, чтобы Анна Семеновна при своей гордости и нетерпимости даже к малой человечьей дрянности (требовательность к окружающим коренилась в беспощадной требовательности к себе самой) позволила опекать себя человеку, почти загнавшему ее в смерть. По приезде в Москву, Анна Семеновна очутилась в нейро-психиатрической клинике известного профессора Корсакова. Но если она дважды покушалась на свою жизнь из-за глупых шуток, то ей полагалось бы задолго до Парижа познакомиться с этим заведением. Вот к чему приводит желание стерилизовать образ Голубкиной, возвести ее в ангельский чин. Ее сделали душевнобольной. Анна Семеновна была человеком с неустойчивой нервной системой. Сильное, ошеломляющее переживание, крушение всех нравственных опор привели ее к страшному самосуду, который не удался, но оплачен был тяжелейшим нервным и душевным срывом. Она никогда уже не оправилась полностью от этого потрясения. Это подтверждает М. В. Сабашникова в письме к Максимилиану Волошину: «Вы спрашивали, что я называю чистым сердцем? Это не смешанное, цельное — вот как у нее (у Голубкиной. — Ю. Н.), только у нее силы не хватило вынести его. Ее ничто не согнет, но она уже сломана. Я думаю, что она очень больна, у нее изранено сердце». Тут только одна неточность: Анна Семеновна не была сломана, доказательство тому вся ее долгая, предельно насыщенная и плодотворная творческая жизнь, ее великолепное, сильное и здоровое искусство. Кстати, разговоры об упаднических тенденциях в ее творчестве не стоят выеденного яйца, даже в худшую пору, после разгрома революции 1905 года, ее символы были полны веры в то, что Россия проснется и двинется туда, где музыка и огни…