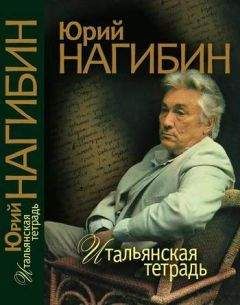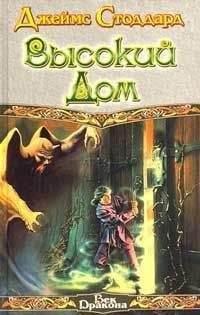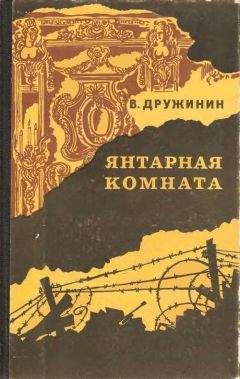Впрочем, слишком категоричные утверждения всегда ложны. Жан Жироду остроумно говорил, что Трою погубили утверждения. Случалось у Вермеера, что оба творческих импульса совпадали. Когда смотришь на «Офицера и сме ющуюся девушку» — так скромно названа сценка в публичном доме, где юная дама красноречиво, хотя и застенчиво, подставила ладошку под монету, — то сперва глаз не можешь отвести от изумительно красного камзола офицера (этот любитель летучих наслаждений настолько не интересовал художника, что он усадил его спиной к зрителям) — как чудесно принимает солнечные блики и прозрачные тени киноварная гладь! Затем переводишь взгляд на его огромную темную шляпу — кусок ночи в цветенье дня — и, оскользнув бегло стену с географической картой — к чему это в бардаке? — сосредоточиваешься на прелестном лице женщины, лукаво-безгрешном и таком манящем, что плакать хочется об ушедшей молодости.
Вот в «Спящей девушке» берлинского музея натура является лишь объектом для игры света (недаром художник закрыл глаза девушке, а ведь без глаз лицо — маска). Здесь человеческая фигура значит для художника ничуть не больше, чем великолепная скатерть, ваза с фруктами, кувшин, кресло, приоткрытая дверь. Но почему картина не только восхищает, но и волнует? Солнечный свет в комнате будит множество воспоминаний, ассоциаций, затрагивает что-то сокровенное в душе.
Живопись, только живопись владела помыслами художника и в потрясающих по свето-цвету «Бокале вина», «Уроке музыки», «Молодой даме в окне», «Госпоже и служанке». К этому ряду картин Вермеера приложимы слова, вычитанные мною у Вальтера Патера: «Искусство есть средство освободиться от тирании чувств».
Для меня долгое-долгое время Вермеер Дельфтский оставался тайной. Я знал его по репродукциям, преимущественно черно-белым, и сам не понимал, в чем причина его особой притягательности, несопоставимой с очарованием «маленьких голландцев», многих из которых я видел в наших музеях.
И казалось, что все свои картины, кроме ранних (одна на мифологический сюжет, другая на библейский) да двух пейзажей, он творил в одном и том же интерьере: всегда узнаваемы были окно, стена с географической картой, немногочисленная мебель, скатерть на столе. Если же появлялось что-то новое, то и оно, как правило, принадлежало тому же самому помещению. Возникла и долго преследовала меня бредовая мысль, что Вермеер калека или паралитик, обреченный на вечное затворничество. Ведь два его пейзажа могли быть написаны из того самого пресловутого распахнутого окна.
Мне не попадались ни книги о Вермеере, ни каталоги его выставок, ни статьи о нем. Затем я встретил имя Вермеера у Марселя Пруста. Шарль Сван, первый щеголь и шармер Сен-Жерменского предместья, светский идеал юного Марселя, научивший франтов подбивать цилиндр зеленой кожей, работал над этюдом о Вермеере. И Одетту, его любовницу, впоследствии жену, раздражало, что Сван ограничивается — из какой-то странной стыдливости — сообщением всяких конкретностей о жизни и творчестве художника, воздерживаясь от личных оценок, упорно уходя в тень. «Ах, если б мне попался этот труд Свана! — вздыхал я. — Голландский сфинкс был бы наконец рассекречен. Как интересно, что Сван с его безукоризненным и придирчивым вкусом, с его чувством изящного выбрал именно этого уединенного художника!»
Прошли годы, и я узнал все то немногое, но, в общем-то, достаточное, что известно о внешней жизни художника. Свою тайну Вермеер никому не открыл и унес с собой в могилу. Каждый почитатель Вермеера открывает его тем ключом, которым владеет. Единой точки зрения на сокровенную суть его творчества нет, да и быть не может. Ее нет и в отношении куда более открытых мастеров, отнюдь не стремившихся остаться загадкой для современников и — подавно — потомков.
У него была крайне неромантическая, однообразная, неподвижная жизнь, и в этом он сродни Тинторетто. Тот всего лишь раз покинул родную Венецию ради короткой деловой поездки в близлежащую Верону. Вермеер не покидал своей крошечной страны. Он прожил недолгую, всего сорок три года, жизнь, но полностью реализовал, исчерпал отпущенный ему Богом громадный дар. Под уклон дней в его работе наметился явный спад, и он, если можно так выразиться, согласился не быть.
Родился Вермеер в Дельфте в 1632 году, в зажиточной буржуазной семье. Отец изготовлял шелка, держал гостиницу и торговал картинами. Последнее дело перейдет к его сыну Яну, который, будучи одним из самых высокооплачиваемых художников, постоянно нуждался в деньгах, ибо работал очень медленно, а семью имел огромную: одиннадцать детей.
Вермеера часто называют учеником знаменитого Карела Фабрициуса, у которого встречались элементы пленэра. Но и в ранних, еще далеких от будущей зрелой манеры картинах Вермеера нет следа ученичества у Фабрициуса. Вермееру было всего двадцать два года, когда Фабрициус погиб от порохового взрыва, и поэт Арнольд Бон в стихотворении на смерть большого художника сказал, что гений Фабрициуса возродился, как Феникс из пепла, в облике Вермеера. Очевидно, отсюда и пошла легенда об учителе и ученике. При этом Вермеер, несомненно, был чем-то обязан Фабрициусу, как и другим великим предшественникам. Художник не возникает из пустоты.
Замечательно другое: необычайно высокая оценка поэтом совсем еще молодого живописца. Его взлет был стремителен. В двадцать один год он был принят в гильдию св. Луки — цеховое объединение живописцев. Это было как бы посвящением в профессиональные художники, в Мастера. Теперь оставалось только одно для утверждения своей зрелости — жениться, что Вермеер не преминул сделать, сочетавшись браком с Катериной Больнесс, девушкой из состоятельной семьи, с которой и прожил в полном согласии до самой смерти в 1675 году. Вермеера неоднократно избирали главой художнической гильдии, что свидетельствовало о его первостатейном положении в среде дельфтских живописцев. К исходу его недолгой жизни интерес к нему стал угасать — и соответственно доходы. Он, конечно, не дошел до нужды Рембрандта, бедности Хальса, тем паче нищеты лучшего пейзажиста Гоббемы, но и не оставил семье никакого наследства, кроме нескольких собственных и чужих полотен. Последние уже ценились дороже.
Это очень тусклая жизнь, если сравнить ее со сверкающей жизнью Рубенса, любимца века, художника-дипломата, всеобщего баловня; это очень обыденная жизнь, если сравнить ее с взлетами и падениями Рембрандта; очень пресная жизнь, если вспомнить о долгом и пышном цветении Франса Хальса; это жизнь с горчинкой, если взглянуть на безунывное существование многих «маленьких голландцев», несопоставимых по таланту с Вермеером. Но ведь то была жизнь художника, а не обывателя, и потому жизнь Вермеера можно считать хорошей жизнью, заполненной любимым трудом, гармонично поделенной между мастерской и семьей.