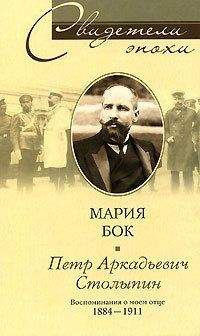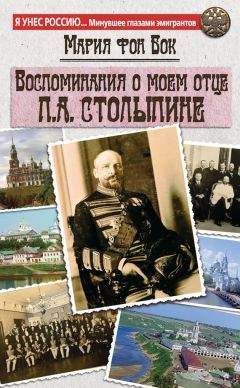За этот сезон было несколько красивых балов, самый удачный из которых был «têtes poudrèes» во французском посольстве.
Все дамы были на этом балу или в париках, или напудренные, что придавало залу очень оригинальный и красивый вид.
Были красивые большие балы у графини Мусиной-Пушкикой и княгини Трубецкой. Но в общем, я наши петербургские балы оценила только тогда, когда уже, будучи замужем, приезжала в Петербург из Берлина.
Масса блестящих мундиров военных и огромное количество бриллиантов у дам создавали картину до того блестящую, что заграничные балы с нашими и сравнивать не приходилось.
Масленица была в Петербурге самой веселой неделей, во время которой балы, представления, катания на тройках сменяли друг друга без перерыва.
Ровно в двенадцать часов ночи, в воскресенье перед постом, все прекращалось – театры закрывались, гости в частных домах разъезжались, и утомленная последней неделей молодежь, полная радостными воспоминаниями и радужными надеждами, отдыхала все семь недель Великого поста.
Многие девицы кончали сезон невестами; постом готовили приданое, а на Красную горку[28] праздновалась свадьба.
При дворе в эти годы уже не бывало приемов, так что про великолепные балы в Зимнем и Аничковом дворцах я знаю лишь по рассказам старшего поколения.
Обеим императрицам ездила я представляться с моей матерью – Марии Федоровне в Гатчину, а Александре Федоровне уже весной в Петергоф.
Поездка в Гатчину ответила вполне, с самого начала до конца, моим детским представлениям о приеме у императрицы.
Приехав из Петербурга в Гатчину в специальном вагоне, мы были встречены на вокзале придворным выездным лакеем, усадившим нас в придворную коляску.
Через несколько минут езды по городу въехали мы в ограду дворцового парка, и коляска бесшумно покатилась по мягким гладким аллеям. Вскоре среди деревьев показался большой, строгой архитектуры дворец, и нас провели через множество комнат и зал. При входе стояли огромного роста арапы в ярких, декоративных костюмах.
В комнате, перед кабинетом императрицы, нас встретила ее личная фрейлина графиня Гейден, с которой мы и посидели несколько минут, пока не вышла от императрицы представлявшаяся ей дама, и графиня Гейден провела нас к ней.
Первое впечатление от императрицы-матери было: как это можно с таким маленьким ростом сочетать эту царственную величавость? Ласковая, любезная, простая в обращении, Мария Федоровна была императрицей с головы до ног и умела сочетать свою врожденную царственность с такой добротой, что была обожаема всеми своими приближенными.
Меня с первого же взгляда очаровали ее глаза: глубокие, прекрасные, на редкость притягивающие к себе, и я вспомнила, как мой дедушка Аркадий Дмитриевич Столыпин, глядя на императрицу, сказал ей раз:
Du hast Diamanten und Perlen
Und alles was Liebchen begehrt,
Du hast ja die sehönesten Lgen… —
сказал и запнулся, заметив, что говорит «ты» в фразе, относящейся к императрице; но та улыбнулась и милостиво промолвила:
– Mes vieux sont toujours galants.
Поговорив с нами около получаса, императрица простилась, и мы, позавтракав у пригласившей нас к себе графини Ольги Гейден, вышли к ожидавшему нас экипажу.
Совсем не таким было представление императрице Александре Федоровне.
Тот же вагон, та же карета, а дальше все совсем иначе, не «по-царски», а как в имении или на большой даче какого-нибудь частного лица.
Это было весной, в «Александрии», в Петергофе. Небольших размеров, донельзя скромно устроенный дворец только почетной охраной напоминал въезжающему, что в нем живет государь, а не помещик средней руки.
Мы вошли: ни анфилады зал, ни арапов, ни большого количества слуг. Нас провел один камер-лакей во второй этаж, в маленькую, светлую, приветливую гостиную. Мебель обтянута «чинцом» с цветами, семейные фотографии, масса цветов в вазах и так мало места, что трудно было сделать положенный этикетом реверанс.
Молодая, очень красивая императрица Александра Федоровна, с нервными, усталыми движениями, одетая не только просто, но даже старомодно, говорила с мама довольно долго. Я сидела скромно и тихо, слушала и удивлялась про себя темам разговора. Почти все исключительно про детей, особенно про наследника. Императрица говорила с жаром – видно было, как эти вопросы волнуют ее, – о том, как трудно найти действительно хорошую няню, как ей страшно, когда маленький Алексей Николаевич близко подходит к морю, какие живые девочки великие княжны, как государь устает и как полезно ему пребывание на морском воздухе.
А я думала, навсегда запомнив грустные глаза и тревожную речь Александры Федоровны: какая идеальная жена и мать, и не создана она для того, чтобы быть императрицей одной из величайших стран земного шара!
Представлялась я также великим княгиням: Марии Павловне и Ольге Александровне. Мария Павловна, уже тогда не молодая, очень мне понравилась и своим элегантным темно-синим бархатным платьем, и важной осанкой, и спокойной речью. А у Ольги Александровны я очень веселилась. Молодая, живая и веселая сестра государя рассказывала всякие смешные вещи и смеялась сама так заразительно, что хохотала и я, забывая, что я во дворце, на приеме у великой княгини.
Эмир Бухарский, почти ежегодно проводивший в Петербурге несколько недель, неоднократно посещал моих родителей, и посещения эти были в высшей степени типичны и интересны.
В день, когда его ожидали, готовился богатый дастархан – восточное угощение, состоящее из массы разнообразных сладостей, которыми уставлялся целый большой стол.
Являлся эмир со своим сыном и свитой человек в двенадцать. Все были одеты в красочные восточные одеяния и говорили на своем языке.
Эмир разговаривал через переводчика с моими родителями, а сын его, воспитанник Пажеского корпуса, почтительно сидел в стороне и слушал.
Восточное воспитание требовало такого глубокого почтения сына к отцу, что юноша не смел даже сесть в лифт, когда поднимался в нем эмир, а бежал рядом по лестнице.
При каждом посещении эмир делал моим родителям и раненой Наташе множество богатых подарков: шелковые ткани, чудные меха, ковры, вазы и другие предметы восточной роскоши. Во время его первого посещения папа получил от него звезду, усеянную бриллиантами такой удивительной чистоты, что петербургские ювелиры не могли на них налюбоваться.
Еще роскошнее были дары хана Хивинского, тоже приезжавшего в Петербург, но реже. Подарил он моим родителям между прочим четыре громадные вазы, две из которых были из чеканного серебра великолепной работы.