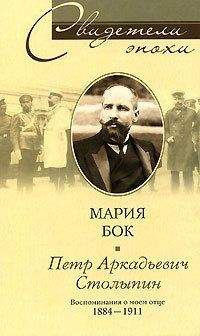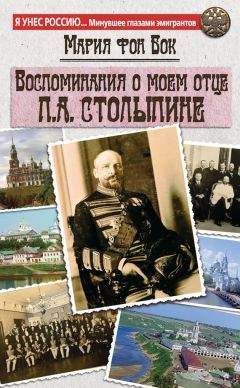Глава 20
Насколько я мало интересовалась светской жизнью, настолько с возрастающим интересом следила я за ходом жизни политической.
От папа лично лишь урывками приходилось мне слышать о чем-либо, касающемся его работы, и с тем большей жадностью ловила я каждое его слово во время тех коротких минут, которые мы проводили в его обществе.
Конечно, все интересы сосредотачивались на предстоящем открытии 2-й Государственной думы.
Состоялось открытие этой Думы 20 февраля 1907 года очень тихо и скромно, сравнительно с торжественным открытием Думы 1-го созыва. Государь на открытии не присутствовал.
Через два-три дня по неизвестным причинам провалился потолок залы в Таврическом дворце, и на то время, пока производился ремонт, заседания Думы были перенесены в Дворянское собрание.
В этой зале мой отец выступал 16 марта с большой правительственной декларацией, в которой он подробно и ясно изложил все последние мероприятия правительства, как и программу, намеченную на ближайшее будущее.
Мы с моей матерью были, конечно, в этот день в Думе. Ложи для публики были устроены не на хорах, как в Таврическом дворце, а внизу, так что мы находились очень близко к ораторам и видали и слыхали все очень отчетливо.
Декларация, громко и четко прочитанная папа, была прослушана молча и серьезно, без тех оскорбительных выкриков, к которым мы так привыкли в 1-й Думе, и по прочтении была покрыта шумными аплодисментами справа.
Глядя на удовлетворенное лицо папа, сходящего с трибуны под аплодисменты, невольно с облегчением вздохнула и я, слушавшая с напряженным вниманием его слова. Боже мой! Неужели наступили действительно те долгожданные дни, когда Дума и правительство смогут рука об руку работать на благо России!
Но надежды эти были напрасны и сразу разбиты, когда начал свою речь социал-демократ Церетели, взошедший на трибуну после моего отца. Как болезненно сжалось сердце, когда я услышала его слова: снова огульное осуждение правительства, грубая хула, наглые, уже ставшие трафаретными, выкрики… Правые подняли невероятный шум, требуя от председателя остановить оратора. Председатель Головин, не обращая ни малейшего внимания ни на возмутительную речь Церетели, ни на выкрики левых депутатов, стал требовать прекращения шума справа.
Церетели сменили другие представители левых партий, до кадетов включительно, и полились бурные потоки грязи на правительство. Когда же стремились сказать свое слово правые, левые криком и шумом мешали им высказаться.
Наконец было принято предложение о прекращении прений.
Слушая с бьющимся сердцем ораторов, я не спускала в то же время глаз с папа. Зная и понимая его, насколько это было мне доступно, я переживала с ним эти горькие минуты и сразу сознала, что не в его характере оставить дело так, что на грубые нападки он ответит и не допустит в такой момент прекращения прений.
Да. Так и есть. Папа встал и с гордо поднятой головой спокойно взошел на трибуну, и так властно и уверенно раздался его голос, что вся огромная, только что гудевшая и стонавшая от криков зала вдруг замерла.
Никогда еще папа так не говорил. Никогда не были его слова и интонация так выразительны и так полны чувством собственного достоинства, как в этот раз. Речь его была коротка, и, как удары молота, упали в мертвой тишине залы ставшие историческими слова:
– Все ваши нападки рассчитаны на то, чтобы вызывать у власти, у правительства паралич воли и мысли; все они сводятся к двум словам: «Руки вверх». На эти слова правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить тоже только двумя словами: «Не запугаете!»
Привожу всю речь, произнесенную в тот день моим отцом:
«Господа, я не предполагал выступать вторично перед Государственной думой, но тот оборот, который приняли прения, заставляет меня просить вашего внимания. Я хотел бы установить, что правительство во всех своих действиях, во всех своих заявлениях Государственной думе будет держаться исключительно строгой законности.
Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы. Я им пользоваться не буду.
Возвращаюсь к законности. Я должен заявить, что о каждом нарушении ее, о каждом случае, не соответствующем ей, правительство обязано будет громко заявлять: это его долг перед Думой и страной. В настоящее время я утверждаю, что Государственной думе волею монарха не дано право выражать правительству неодобрение, порицание или недоверие. Это не значит, что правительство бежит от ответственности. Безумием было бы предполагать, что люди, которым вручена была власть во время великого исторического перелома, во время переустройства всех законодательных государственных устоев, чтобы люди, сознающие всю тяжесть возложенной на них задачи, не сознавали тяжести взятой на себя ответственности. Но надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы, от царской резиденции, волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в южном промышленном районе, когда распространялись крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, или действовать и отстоять то, что было ей вверено. Но, господа, принимая второе решение, правительство роковым образом навлекло на себя и обвинение. Ударяя по революции, правительство, несомненно, не могло не задеть частных интересов. В то время правительство задалось одной целью – сохранить те заветы, те устои, начала которых были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во 2-ю Думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут, волею монарха, нет ни судей, ни обвиняемых, что эти скамьи (показывает на места министров) – не скамьи подсудимых – это место правительства. (Справа аплодисменты: „Браво! Браво!“)
За наши действия в эту историческую минуту, действия, которые должны вести не ко взаимной борьбе, а к благу нашей Родины, мы точно так же, как и вы, дадим ответ перед историей. Я убежден, что та часть Государственной думы, которая желает работать, которая желает вести народ к просвещению, желает разрешить земельные нужды крестьян, сумеет провести тут свои взгляды, хотя бы они были противоположны взглядам правительства. Я скажу более, я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких-либо злоупотреблений.