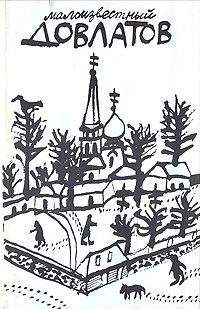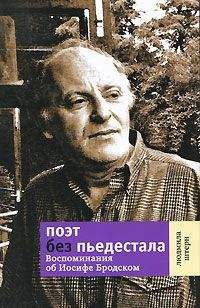Иосиф прочел в свое время три главы, узнал в одном из героев гибрид себя с Женей Рейном, хмыкнул и сказал «очень даже», что означало одобрение. При этом он выразил опасение, что у меня не хватит усидчивости роман завершить, и где-то на семьдесят пятой странице герои мне остое… (надоедят) хуже горькой редьки, и я одного повешу, другую утоплю, а третий самолично выстрелит себе в висок или в сЭрдце (буква «э» в последнем слове была произнесена Иосифом с большим чувством). Он был прав, но только частично. Все герои живы, но роман, действительно, уже двадцать лет лежит в папке под названием «В работе».
Итак, я попросила Довлатова придумать название и получила такое письмо:
6 августа
Людмила!
Я не могу любить тебя, потому что ты годами отсутствуешь. Но дружеское чувство к тебе по-прежнему наличествует. Название для чужой вещи придумать трудно. Могу поделиться опытом. Названия бывают двух видов. Одни могут вытекать из сути: «Гранатовый браслет», «Каштанка», «Как уберечь себя от венерических болезней»… Существуют также названия-девизы. Берется просто красивая фраза. Или слово. Вот тебе и девиз. Так родился «Колокол» Хемингуэя. Согласись, что это название применимо абсолютно к любой вещи… Или: «Чайки умирают в гавани», «Деревья умирают стоя», «И не сказал ни единого слова». …В твоем же названии можно использовать двусмыслие понятия «связь». Например, «Обратная связь». Я бы назвал «Диалог», потом закончил и взвесил — годится ли. Или назови — «73-03-36». Это Аськин телефонный номер. Единственный номер в Ленинграде, который я помню. Даже свой забыл. Может, так и надо — цифра и снизу в скобках (роман в диалогах). А что?
Приезжай скорее. Да, насчет упреков и похвал. Меня не интересует ни то, ни другое. Просто я все знаю сам. При этом, как всегда, я готов жениться на тебе. Могу ждать еще двадцать лет. Могу сразу. Могу как только разбогатею. <…>
13 августа, Штерн — Довлатову
Милый Сережа!
Посылаю тебе маленький рассказец про санитарное состояние пограничной полосы Советского Союза. По-моему, смешной.
Спасибо тебе за лаконичные, деловые, но, по-видимому, искренние слова о любви.
I appreciate it very much
. Может, когда-нибудь и поженимся, чего не бывает?
Завтра я уезжаю очень далеко. Колорадо — Юта — Орегон — Калифорния. Вернусь в конце месяца и 5-го сентября появлюсь в Нью-Йорке.
Начала писать много разных высокохудожественных произведений. Спасибо за варианты названий. Может быть, «Диалог»? Предложенный тобой Асин телефонный номер никто не запомнит. А может быть, «Нечаянный звонок»?
Еще будут смешные байки и всякие случаи из жизни, которые мне без конца рассказывают приятели, «с тех пор как я стала писателем». И, поверишь ли, мемуары.
В общем, я наших планов люблю громадье!
Обнимаю тебя и целую,
Люда
В результате я остановилась на названии «Нечаянный звонок». Надеюсь закончить свой роман еще в этой жизни.
В оценке литературных произведений собратьев по перу Довлатов был абсолютно непредсказуем, но очень часто проявлял такт и доброжелательность. В своем архиве я нашла его письмо, адресованное Соломону Иоффе, который написал книгу о тайных намеках в творчестве Булгакова. Мне кажется, оно представляет интерес для понимания довлатовского взгляда на саму природу творчества.
Дорогой Соломон Иоффе!
Я получил Ваши рукописи и с увлечением их прочел. Написано легко, компактно, остроумно и, повторяю, чрезвычайно увлекательно. Однако, извините за прямоту, ни в одном пункте Ваши соображения меня не убедили, даже в таких, казалось бы очевидных случаях, как аналогия «Воланд — Сталин». И дело не в качестве Ваших исследований. Расхождения лежат в более глубокой сфере, а именно, во взглядах на природу творчества. Мне кажется, Вы недопустимо рационализируете процессы неясного, интуитивного, или, как говорится, метафизического характера. На эту «метафизику» с почти неправдоподобным единодушием указывали чуть ли не все крупные художники (Ахматова: «Мне голос был…»). Короче, по моим ощущениям, 90 процентов всего этого дела разворачивается в подсознании, остальные 10 — техника, канцелярия, почерк, ремесленные хитрости и прочее. А Вы, вслед за Фрейдом, совершаете челночные рейсы из подсознания в сферу разума, то есть переводите с незнакомого языка на язык знакомый, иначе говоря, абсурд.
Вот Вы создали целую концепцию вокруг имени Глеб Нержин, а между тем возьмите наугад десяток средних писателей славянского происхождения с не очень хорошим вкусом и дайте им задание придумать имя главному положительному герою, и Вы услышите: Стас Батурин, Юрий Стогов, Олег Иконников, Владимир Брагин, Петр Муромцев, Игорь Громов и т. д. Все они — психологические тезки Глеба Нержина.
Очевидно, для писателя выбор имени — серьезное дело, но производится эта работа на уровне «звучит — не звучит», «ложится — не ложится». Попробуйте, скажем, заменить Пьера Безухова на Жана Безносова. Ужас! <…>
Но разума в этом — 10 процентов, остальное — «голоса», интуиция.
Конечно, Булгаков жил в нервное время, и все это у него отразилось, и Сталина там навалом со всей его гоп-компанией, но рационально выполняемой задачи, мне кажется, не было.
А главное, зачем бы ему это понадобилось? Зачем надо так мучительно шифровать сообщение, что Ворошилов — говно? Что это — игра, демонстрация виртуозной техники (что было бы унизительно для художника такого калибра)? Или попытка донести правду истории? Если донести правду, то кому это, вообще-то говоря, нужно? Булгаков-художник — огромная величина, а Булгаков-историк — кандидат наук. Мне кажется, Булгаков выигрывает, если всю Вашу тайнопись убрать, гнать от себя, если она напрашивается, а в особо назойливых случаях («Троцкий — Бронштейн — Бронский») воспринимать ее как огрехи подсознания. Кстати, не все Ваши догадки столь же выигрышны, среди них немало произвольных, сделанных с нажимом.
Короче, даже если все так, как Вы пишете, — тем хуже для Булгакова.
И тут я перехожу к основному. Отдельно от всего, что я нагородил, Ваша книга «Тайнопись у Булгакова» (или как она там будет называться в окончательном варианте) необычайно увлекательное художественное произведение.
Убежден, что в глубине души Вы — беллетрист тыняновско-синявского облика. И я бы, конечно, очень хотел, чтобы такая книга вышла как можно скорее. И это будет вклад, но не в науку, а в литературу, и, между прочим, наша жалкая литература нуждается в таких капиталовложениях куда больше, чем сравнительно приличная наука.
От души желаю Вам удачи.
С. Довлатов
А вот другое письмо, написанное Игорю Ефимову после того, как Довлатов осудил сексуальные сцены в романе Ефимова «Архивы страшного суда».
Дорогой Игорь!
Я вдруг почувствовал, что, несмотря на всю Вашу мускулатуру, Вас могло огорчить то, что я написал об «Архивах», и поэтому я не то чтобы хотел взять свои слова обратно, но просто уточнить и подчеркнуть некоторые моменты. Я боюсь, что Вы, (как это сделал бы я), обратите внимание только на отрицательные соображения, и пропустите мимо ушей положительные [Кстати о выдержке и независимости от чужого мнения, которыми он так передо мной хвастался. —
Л. Ш.
]. Поэтому я хочу еще раз сказать, что роман увлекательный, я даже помню, как что-то быстро доедал, спеша улечься и читать дальше (при всей идейной нелюбви к детективным сюжетам), что все линии в романе сходятся, что история с кровью и Аверьяном очень занятная, что когда я высказывал критические замечания, то сравнивал «Архивы» с Вашими же другими произведениями, а если сравнивать с чужими, то в самой низшей части роман не опускается до уровня Львова (главное в котором пошлость), Суслова (который пишет не прозу, а что-то симпатичное иногда, но другое), или Алешковского (гнетущие однообразие которого стало уже чем-то болезненным), а ведь эти трое — не последние авторы в эмиграции.
Как и в других Ваших сочинениях, здесь все основательно, нет путей наименьшего сопротивления, не использована ни одна из уловок, облегчающих труд, ничто ниоткуда не заимствовано, все изображено, а не названо и т. д.
Далее хочу сказать, что «Последние слова» Алешковского — паранойя, Суслов в «Руссике–81» опубликовал моральную пропись на уровне журнала «Задушевное слово», второй роман Лимонова гораздо хуже первого, и — как это ни фантастически звучит — гораздо грязнее, и вообще, я считаю, литературе приходит конец, умирает куда больше писателей, чем нарождается. Вайль и Генис купили в «4-х континентах» сборник «Молодая ленинградская проза», и я не обнаружил там ни одного знакомого имени, это не значит, что кто-то народился, а значит, что многие исчезли.
У нас все более-менее хорошо. Халтуры на радио много, публикации грядут в двух или трех журналах, английское издательство (в Лондоне) прислало контракт на «Компромисс», чтобы издать его после Кнопфа, с остальными ведутся какие-то переговоры, даже с Японской страной, причем надо добиться, чтобы на обложке японского издания было мое фото, иначе никому не докажешь, что это написал ты.
Карл Проффер [16] давно задолжал Лене полторы тысячи, о напоминании не может быть и речи, потому что в любом напоминании сквозил бы чудовищный подтекст: верни, покуда жив. Можно было бы подумать, что он просто забыл, находясь в ужасном состоянии, но Карл звонит, уточняет производственные моменты следующего набора и вообще держится очень сильно…
Есть и такая сенсационная новость. Некто Вас. Шулькевич (он же Юра Дулерайн с Радио Свобода, человек, похожий на игрушечного Хемингуэя) написал в газете НРС, что роман Львова «Двор» выше «Буденброков» и «Саги о Форсайтах»… Все-таки, в СССР такого произойти не могло.
Некий Консон готовит первый номер сатирического журнала «Петух», для которого я написал статью «Обстановка в пустыне», в которой обругал всю эмиграцию. Надеюсь, журнал выйдет после того, как Седых даст в «Хронике» сообщение о выходе «Зоны». Говорят, в йельском архиве заморожены письма Бунина, в которых он называет Седыха «мой верный мопс».
В конце разрешите сказать без затей, что я Вас люблю и уважаю.
Всем приветы.
Да, я написал большой (24 стр.) рассказ о моем брате, который мне настолько нравится (впервые за три года), что я, наверно, пришлю Вам рукопись для ознакомления, как в добрые старые времена — еще при советской цензуре, когда все окружающие читали «Войну и мир» и никто не говорил, что Львов выше Томаса Манна.
Обнимаю,
С. Д.