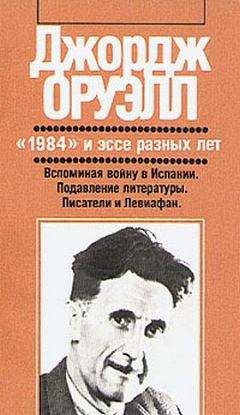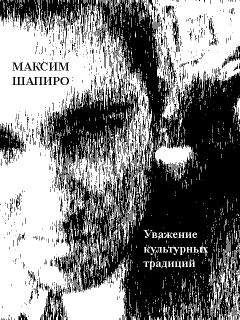зло таилось в секретности, лицемерии и примитивном мышлении, в убежденности, что никому ничего не следовало знать. Мои родители решились зачать ребенка путем неправоверным и незаконным, как тогда считалось, но проблема была не в этом. А в том, что они предпочли забыть правду, таким образом ограждая от нее и меня. Их выбор сформировал мой полный трещин и расселин внутренний мир — мир потерянной девочки, которая интуитивно чувствовала свою непохожесть и винила в ней себя. Теперь я эту непохожесть осознала. Только что обедала с ней.
Секретность и анонимность были общепринятым подходом пятьдесят, шестьдесят лет назад. А сейчас? Открывая веб-сайт за веб-сайтом, я размышляла над тем, сколько детей до сих пор рождалось во лжи. Доноры продолжали оставаться в тени — или, по крайней мере, многие из них на это рассчитывали. Конечно, в сегодняшнем мире любые гарантии неприкосновенности личной жизни звучат абсурдно, но сайты по-прежнему пестрят обещаниями анонимности. Я вспомнила горестное замечание Алана Дичерни. Теперь тайны уже нет.
Я решила навестить Калифорнийский криобанк, крупнейший в Америке банк спермы. Хотела узнать о текущем развитии отрасли искусственного оплодотворения, но не как напуганный и малосведущий потребитель, которым была несколько лет назад, а как человек, узнавший тайну собственного происхождения.
Был типичный лос-анджелесский день: безоблачное небо, шелестящие в легком бризе пальмы. Запрокинув голову, я смотрела на контейнер из нержавеющей стали объемом в двадцать две тысячи литров, он возвышался над двухэтажным зданием в одном из жилых районов города. Контейнер был заполнен пробирками со спермой, замороженными в жидком азоте, защищен колючей проволокой и сложной системой сигнализации. Было ощущение, что я смотрю прямо в будущее, словно в этом бункере хранилось еще не рожденное население нескольких стран.
Рядом со мной стоял основатель Калифорнийского криобанка Кэппи Ротман, бодрый восьмидесятилетний уролог, известный как «бог спермы». У Ротмана были зачесанные назад длинные седые волосы и пронизывающий взгляд голубых глаз. Он явился в область репродуктивной медицины значительно позже моего зачатия и вряд ли обладал нужной мне информацией и историческими сведениями. Его интересовало не прошлое, которое я так усердно пыталась понять, а будущее. У меня тоже будущее вызывало любопытство — я все еще находилась под сильным впечатлением от множества прочитанных и услышанных историй мужчин и женщин, которые не могли обрести идентичность ввиду отсутствия информации.
— Сколько душ — потенциальных — здесь у вас? — спросила я, оглядывая кампус, похожий на небольшой, хорошо защищенный ядерный арсенал.
Я нарочно употребила слово душа. Хотела разобраться, волновали ли Ротмана человеческие жизни, которые были возможны благодаря пробиркам со спермой, или его интерес не простирался дальше места продажи. Просматривая каталог криобанка, я отметила, что при выборе донора можно было просмотреть его детские фотографии, а также историю его семьи до третьего поколения; были доступны записи, в которых донор рассказывает о том, что его интересует, даже образцы поэзии, песен, статей и рисунков. Родители — и, наверное, дети — при желании смогли бы услышать голос донора или прочитать написанный от руки сонет. Я размышляла, в какой степени достаточно иметь доступ к биографическим обрывкам такого рода.
Ротман помолчал, словно никогда не задумывался над этим вопросом. Там были сотни цилиндров, и каждый — я видела, когда мы зашли внутрь и Ротман вскрыл несколько, показывая мне, — содержал тысячи и тысячи крошечных пробирок со спермой.
— Думаю, миллионы, — сказал он. — Миллионы душ.
Это и рядом не стояло с подпольным институтом, в котором оказались мои родители в Филадельфии в 1961 году. Технологии заморозки спермы еще не существовало. Разумеется, не было и каталога. Ни веб-сайтов с рекламой мечты, ни информации о потенциальных донорах в духе опросника Пруста: «С кем бы вы мечтали вместе пообедать?» Интересно, сидели ли мои родители в кабинете Эдмонда Фарриса, обсуждая достоинства тех или иных мужчин? На самом деле я в этом сомневалась. Было достаточно пристойных, утонченных эвфемизмов того времени. Хотели ли они, чтобы цвет волос и глаз их будущего ребенка был как у отца? Задумывались ли они над группой крови? В отличие от многих сегодняшних будущих родителей — нас в том числе — мои родители вряд ли бы запросили биографические и личные данные своего донора. Они хотели бы отгородиться от него, расщепить на молекулы, не оставляя никаких следов. «Предоставьте нам всю работу», — возможно, сказали моим родителям. Если их вообще ввели в курс дела.
Мы сидели в кабинете Ротмана на втором этаже в окружении репродукций знаменитых полотен. «Звездная ночь» Ван Гога висела рядом с одним из его автопортретов: изображения состояли из завитков сперматозоидов. Через несколько дней Ротман пришлет мне сувенир — шариковую ручку с плавающим пластмассовым зародышем и футболку с изображением сперматозоида, немного похожего на Каспера, доброе привидение, но выполненным в стиле «Крика» Эдварда Мунка. Не знаю, была ли его вульгарная самопрезентация перформансом или заветной целью — наверное, и тем и другим понемногу. Он мнил себя создателем жизней. Чем больше жизней, тем лучше.
Я начала рассказывать Ротману о своем собственном недавнем открытии. Мне было тяжело завладеть его вниманием, но в конце концов удалось, запинаясь, рассказать свою историю. Судя по его виду, он расстроился, когда я рассказала о поисках Бена. Он, как и многие другие директора банков спермы, верит, что отмена анонимности будет разрушительна для всей отрасли. Возможно, так и есть. Если бы Бен, будучи молодым студентом-медиком, знал, что его личность однажды может быть раскрыта, то никогда бы этого не сделал. Меня бы не существовало.
— А как же насчет информационной открытости? — поинтересовалась я. — Рекомендуете ли вы родителям рассказывать детям об их происхождении?
Он пожал плечами:
— Вообще это им решать. Мы не вмешиваемся. Не вижу особой разницы.
— Это может нанести сильную травму, — пояснила я. — Не знать. А потом выяснить.
Я расчувствовалась. Я видела все эти металлические цилиндры с крошечными пробирками, в каждой — умопомрачительное количество замороженных сперматозоидов. Когда мы ранее шли по комплексу, я заметила транспортировочные контейнеры с металлическими емкостями жидкого азота, на крышках которых были желтые наклейки: «ПУСТЫЕ ПРОБИРКИ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ». Замороженную сперму доноров вроде «Ле Артиста» или «Тренера года» тщательно запаковывали в прочный гофрированный картон и погружали в грузовики FedEx или в грузовые отсеки самолетов, отправляя бог знает куда. Миллионы. Миллионы душ.
— Почему же это наносит травму? — Ротман был озадачен. — Вы ведь появились на свет, не так ли?
Я и раньше слышала подобные рассуждения. Ведь я могла бы вообще не родиться. Конечно, да. Я была благодарна за свою жизнь. Благодарна, что