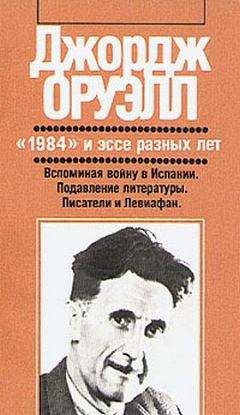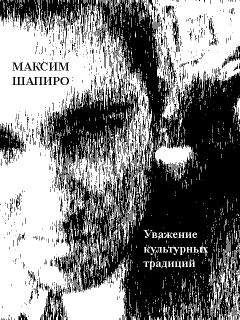что они уже закончились. И в тот день, когда я встретилась с Беном Уолденом, я не зажгла свечей в память о своих сложных, но любимых покойных родителях. Зато я старалась удержать их всех в своем переполненном чувствами сердце.
Позднее один раввин напомнит мне, что слово «отец» на иврите, аба, составлено из первых двух букв алфавита: алеф, бет. Он спросит меня, могу ли я отдать дань двум истокам, двум отцам, от которых я произошла. Со временем я научусь принимать оба истока. Их взаимопроникновение преследует меня всю жизнь. Но в тот вечер, оставшись одна у себя в кабинете, сидя на кушетке — той же самой, где почти четыре месяца назад я узнала правду о своем происхождении, — я написала Бену записку с благодарностью. Ее я подписала «С любовью».
Казалось бы, после обеда с Беном я должна была почувствовать себя лучше. Возможно, ощутить облегчение, утешение от приятной встречи. Лучшего варианта развития событий для человека, зачатого с помощью донора, и представить сложно. Описывая случившееся, я использовала слово «удивительный» — так оно и было, — но дело было не только в этом.
Я погрузилась в еще более глубокую безысходность, и это меня удивило. У меня обострилась чувствительность к яркому свету, к самым безобидным шумам — я вздрагивала от гудящего звука труб, от стука хлопнувшей двери. Почти все дни я продолжала проводить дома, зарывшись в историю донорского оплодотворения, читая научные статьи, цитирующие специалистов по этике и философов по теме прав детей, зачатых с помощью доноров, и очередные книги о галаха, как будто могла найти ключ к тому, чего я пока не знала.
Иногда, уже поздно вечером, усталая, эмоционально выжатая, я переходила на веб-сайты с каталогами доноров спермы. Пролистывала их страницу за страницей. Мужчины выбирали себе псевдонимы вроде «Ле Артист», «Улыбка в 100 ватт», «МакДонор», «Тренер года» и «Миссия выполнена». Мне становилось неловко, как если бы я за кем-то подглядывала или пыталась проникнуть не в свою среду.
Если бы меня спросили, я не смогла бы объяснить, чего именно искала, зачем просматривала каталоги доноров спермы. Мне вспоминались библейская история об Иосифе и его братьях, а также отрывок из одноименного романа Томаса Манна:
«…его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление: помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого» [63].
Мы были из разных миров, Бен и я, и прожили разные жизни — мы не делили одну жизнь на двоих, — но у каждого есть отец, и моим отцом был он. Он меня породил, говоря устаревшим языком, и потому связь между нами была такая мощная, что осмыслить ее было невозможно.
Читая биографические справки мужчин-доноров, я размышляла о том, понимали ли они — по-настоящему понимали, — что делали. Я нажимала мышкой на некоторые биографические справки: обо всех донорах говорилось, что они красивы и похожи на знаменитостей, от Курта Кобейна до Кэри Гранта. И многие значились как анонимные. Без указания имени. Без указания имени. Без указания имени. Они не желали, чтобы с ними связались, когда ребенку исполнится восемнадцать. Они желали стать донорами, и точка. Имеет ли мужчина право стать донором, поставить галочку против графы «без указания имени» и благополучно об этом забыть? Или — как много десятилетий назад поступил Бен, — наверное, в делах такого рода можно эмоционально абстрагироваться.
Больше десяти лет назад мы с Майклом решили завести еще одного ребенка. Нам хотелось, чтобы у Джейкоба появились сестра или брат. Но его болезнь в детстве на несколько лет поглотила нас, мы хотели увериться, что с сыном все будет в порядке. К тому времени мне было уже за сорок. Мы пытались зачать несколько месяцев, после чего согласились на несложное в техническом смысле внутриматочное оплодотворение. Майклу тоже пришлось пройти через кабинку с ассортиментом порнографических журналов. У меня был выкидыш, потом второй — на этот раз в конце первого триместра. Мы сжимали друг другу руки в кабинете гинеколога, когда нам сообщили, что сердцебиение ребенка было слабым, потом — неделю спустя — исчезло. Обхватив живот руками я оплакивала сходившую на нет возможность завести второго ребенка. Джейкобу к тому времени было шесть лет. Разница в возрасте между ним и потенциальными братом или сестрой увеличивалась с каждым месяцем.
Вечерами мы с Майклом, сидя в библиотеке на кушетке, листали фотографии и краткие биографические справки молодых женщин — доноров яйцеклеток — в попытке заменить, а то и улучшить мою стареющую, неисправную природу. Мы рассматривали доноров-евреек, доноров-спортсменок, доноров с образованием университета Лиги плюща, доноров — бывших фотомоделей. Мы вглядывались в их почерки, отметая некоторых по несуразным причинам: одна ставила над «i» точки в виде сердечек. Другая окончила евангелический университет. Как это влияло на гены? Наши одержимость и замешательство росли в одинаковой мере. Сами того не ведая, мы скатились в серый, мутный мир, в котором когда-то жили мои родители; мы испытывали стыд, обреченность, боль, а где-то вдалеке брезжил луч надежды. Даже тогда я понимала, что мы закрывали на многое глаза и видели только вожделенный приз. Я знала, что если бы мы дали себе время задуматься обо всех возможных последствиях наших действий, мы бы остановились.
Что мы знали наверняка и считали очевидным, а потому не требующим обсуждений: этот ребенок — если ему суждено родиться — будет знать о своем происхождении. История его происхождения будет вплетена в общую историю семьи без шумихи. Мы знакомы со многими родителями, дети которых были зачаты с помощью доноров, это прекрасные семьи. Одним детям рассказывали историю их происхождения, другим — нет. Я чувствовала себя некомфортно с детьми, которые не знали правды о своем происхождении. Возможно ли это: я знаю об этих детях едва ли не главное, а они о себе этого не знают? Как могут родители считать, что подобное неведение детям во благо? Я не могла себе представить жизни с грузом подобной тайны.
Но, очевидно, я сама относилась к тем детям, а мои родители — к тем родителям. Проблема, как мне теперь казалось, была в анонимности — в обещании ее хранить. Настоящее