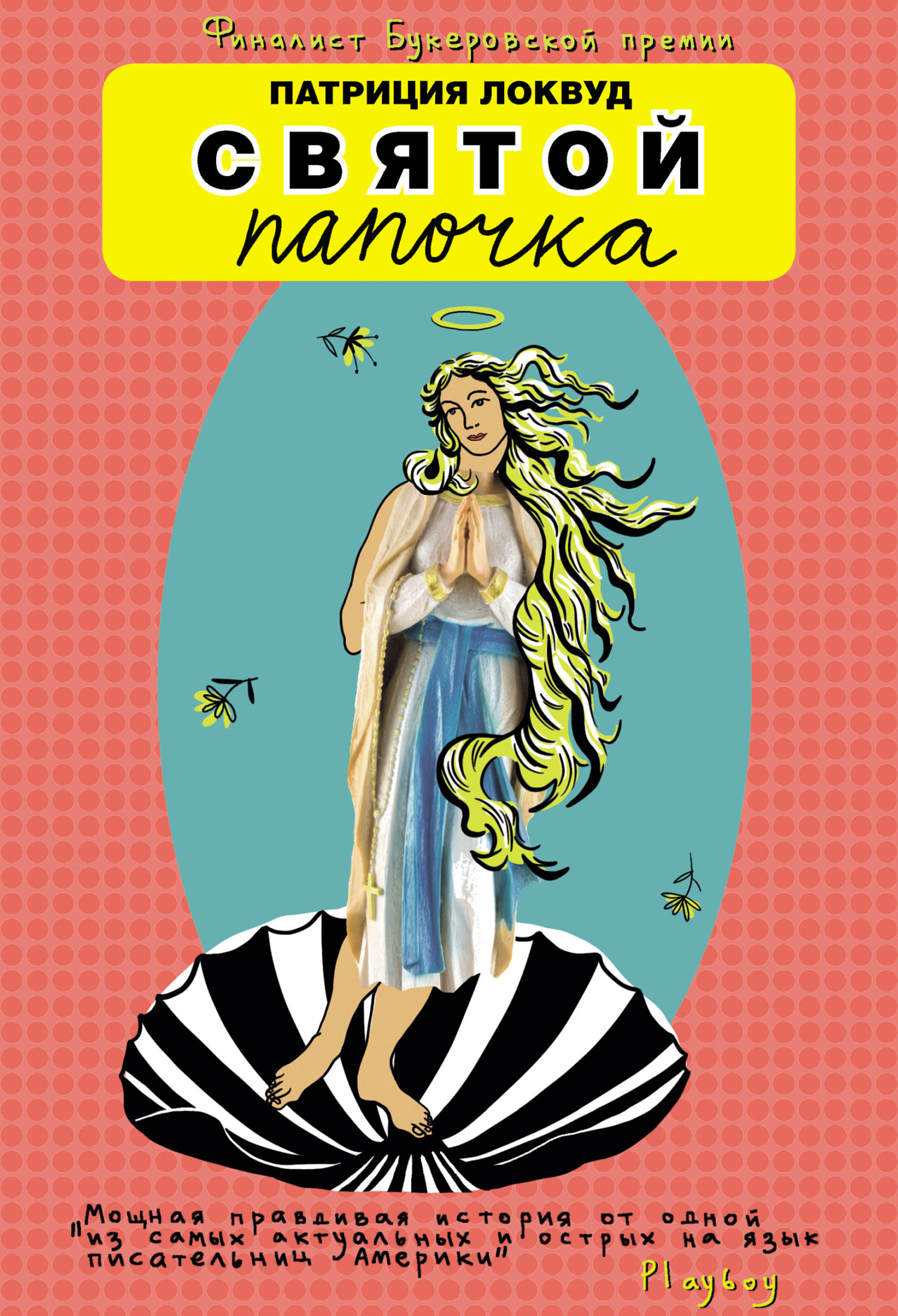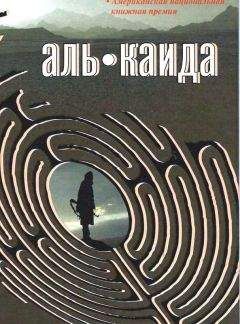о моем супруге.
Никто не хочет в этом признаваться, но пакет с дерьмом выбивает нас из колеи. Мы волей-неволей представляем себе какого-нибудь разгневанного прихожанина, сидящего на корточках над пакетом из супермаркета. У моей мамы есть догадка, кто бы это мог быть…
– Она способна на это. Она ВПОЛНЕ могла подкинуть нам какашки…
Но больше она ничего не говорит. У папы были враги среди прихожан с самого первого дня. Когда он закрыл школу из-за низкой посещаемости, враги начали множиться, и их голоса становились все громче, особенно после того, как отец передал здание и все его содержимое тем, кто пребывал на домашнем обучении.
Одним летним днем мы с семинаристом исследовали это темное и гулкое здание: ящики с трофеями, фонтанчики с водой, облупленные гипсовые статуи на лестничных площадках и призраки уроков, все еще не стертые с досок. Едва переступив порог, я почувствовала, что вот-вот завалю контрольную по истории. Мое обучение в подобных местах было сухим, суровым и ограниченным, но теперь я ему благодарна, учитывая, что мой отец хотел, чтобы мама обучала всех нас, пятерых, на дому.
– В наши дни, – говорит он, – детишки разъезжаются по колледжам, а как возвращаются – католичества в них и след простыл. Кроме тех, кто учился на дому.
Я во время этого разговора на цыпочках поднимаюсь по лестнице и еле сдерживаю дрожащий смешок. С одной стороны, на домашнем обучении у моей матушки не соскучишься. А с другой, я бы выпустилась у нее человеком, который знает названия всех болезней, но лечить их не умеет.
По коридорам были разбросаны кучи учебников. Я узнала почти все – вот букварь с пауком, а вот книгапро волшебный шкаф, вот – про толстых хоббитов, дерущихся из-за кольца, а вот – про детишек, которые сбегают из тесных городских квартир и прячутся в дуплах деревьев. Это были глубоко родные книжки глубоко отечественного производства – те, в которых мальчик пробирается по дикому лесу, вооруженный лишь ножом и собственной смекалкой, облаченный в трусы из грубо сшитой оленьей кожи. Под конец книги он уже не выживал в этом лесу, а господствовал, словно лорд в гигантском поместье, лишенном стен и дверей, в окружении садов и фонтанов, природных перин, каминов и банкетных залов, уставленных свежими фруктами.
Ряса семинариста скользнула по линолеуму. Он вошел в один из классов, изящным взмахом летучей мыши снял свое платье и сел играть на детском рояле, купленном моим отцом по очередной прихоти за сумму, которую я даже назвать не могу. Эти деньги могли воплотиться для кого-нибудь из нас в диплом о высшем образовании, в первоначальный взнос за дом престарелых или любую другую форму безопасности, которой никто из нас никогда не ощущал, но вместо этого они превратились в музыку, которая разносилась эхом по пустым кабинетам пустой школы – само воплощение неслучившегося образования, ответ на вопрос «почему». Cлушая его игру, я вытягиваюсь на софе, положив ноги на подлокотник. Семинарист старательно избегает смотреть на них и с головой погружается в свою музыку. Закончив, он натягивает свое платье через голову и чинно расправляет складки.
– Вот попал бы я впросак, если бы кто-нибудь увидел, как я раздеваюсь в классе, – заметил он, застегивая гибкими пальцами тридцать три пуговицы. Когда мы выходили из школы, мне хотелось прихватить хотя бы по одной книге из каждой стопки – как бы спасая их. Отец недавно сказал мне, что ему позвонила одна из девочек, пребывающих на домашнем обучении, и спросила, может ли она выбросить «греховные книги»? Я подумала: «Да, но я напишу еще одну. А потом еще и еще. И еще одну после этого».
Воздух на улице становится свежим и хрустящим, как яблоко – значит, настало время сжигать опавшие листья, например, «Скотный Двор», «Лолиту» и «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет». Последние восемь лет своей жизни я жила в местах, где не существовало ощутимой смены времен года, где мир не умирал с уходом солнечного тепла, а бесконечно пребывал в его благости. Я уже и забыла, как остро осень затачивает свои карандаши – простые и разноцветные. Я забыла о том, что времена года напоминают о школе и о связанных с этим чувствах – о чувстве свободы после трех дня и о безымянном ужасе воскресной ночи, когда темное небо нависает над тобой как дедлайн какого-то доклада, за который ты еще даже не бралась. Я хочу пить какао из термоса, я хочу пойти на футбольный матч старшеклассников. Я хочу смотреть, как отец расхаживает взад-вперед вдоль линии поля в роли помощника тренера, как швыряет свою шляпу на землю, топчет ее ногой в полосатых штанах и орет на защитников, изображая человека, пораженного смертельной коронарной болезнью. Он выглядел тогда, как и сейчас, как человек, который всю свою жизнь питался только мясом.
В середине ноября один из прихожан делает папе сюрприз в виде палки большой вонючей колбасы из оленя, которого он застрелил сам. Джейсон теряет голову, когда видит это, и убегает наверх в ужасе от того, что мой отец может предложить ему кусочек этого подарка, чтобы укрепить их мужскую связь.
– Я только что вспомнил, мне… мне нужно переодеть штаны, – говорит он, кометой взлетая наверх и оставляя после себя хвост из трусости.
Как оказалось, даже мой отец не смог одолеть больше двух дюймов этого подарка. Он бы и хотел оказаться человеком, который любит оленину, но реальность не смогла соответствовать его романтическим представлением. Я чувствую его боль. Однажды я купила фунт свиной солонины, полагая, что ее вкус перенесет меня во времена пилигримов, но пока ела, внезапно наткнулась в куске мяса на вполне ощутимый, нежный сосочек. Колбаса из оленины обвиняющей кишкой теперь валяется в холодильнике. Каждый раз, когда папа открывает дверь, этот кусок мяса длиной в фут точно насмехается над ним.
– Это еще что за ДРЯНЬ?! – возмущается матушка, когда впервые натыкается на нее в отделении для овощей, но с папой она осмотрительнее.
– Грэг, давай я это выброшу, – время от времени тактично предлагает она, но папа продолжает настаивать, что съест ее.
– Ты что, шутишь? Это отличный деликатес, ОТЛИЧНЫЙ! – говорит он, но гораздо громче, чем того требует ситуация, и выразительно причмокивает губами, как сделал бы ребенок. – Просто отличный, лапочка, – заканчивает он, но уже слабее, голосом, которым ему даже себя не убедить, после чего уходит к себе в комнату и закрывает дверь. В конце концов мы втихаря выбрасываем колбасу в мусорку, пока отец