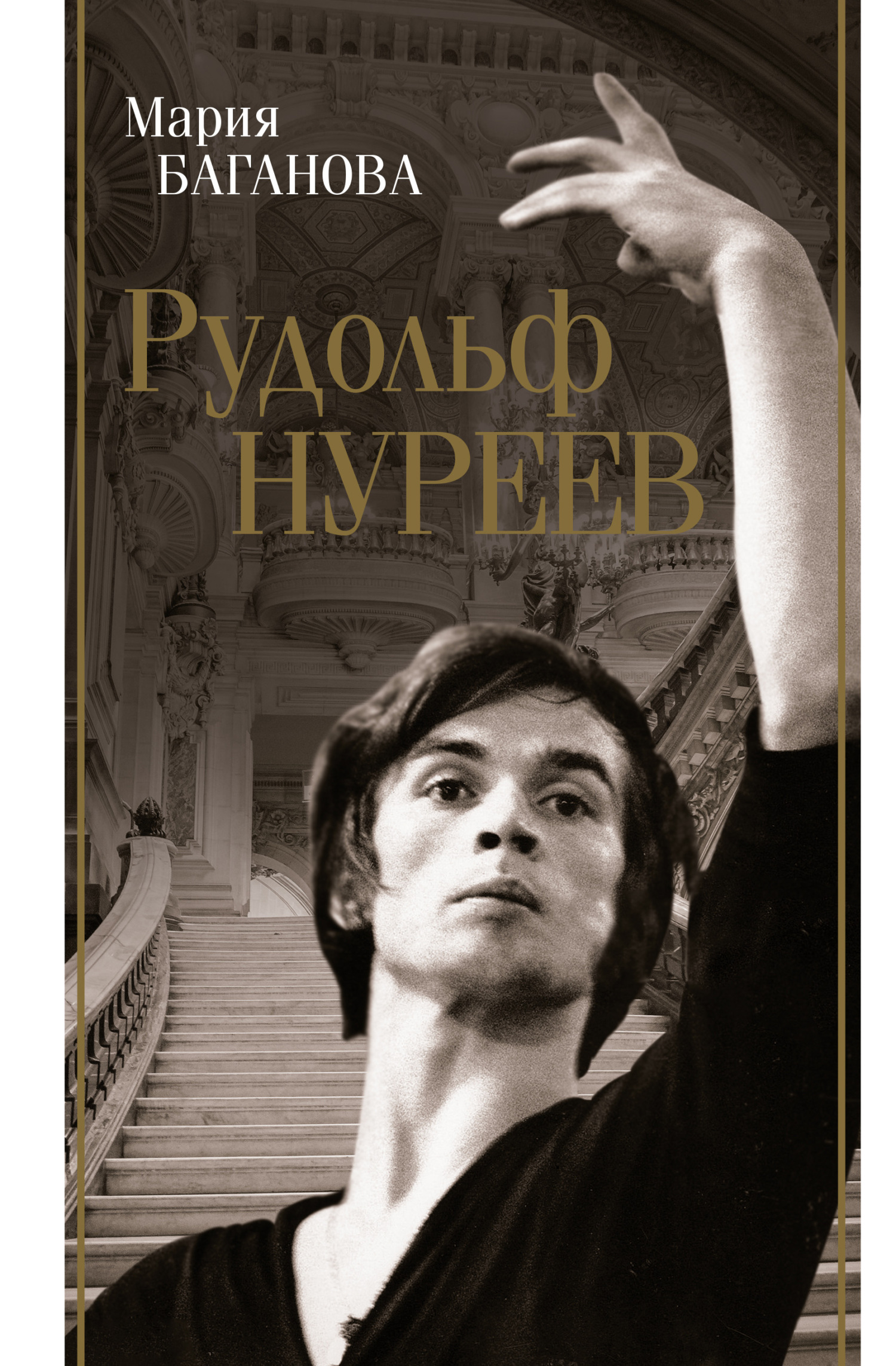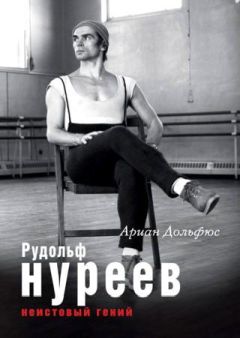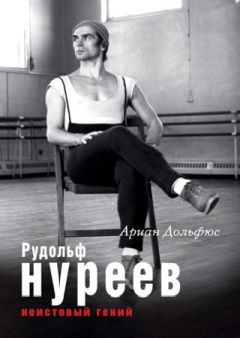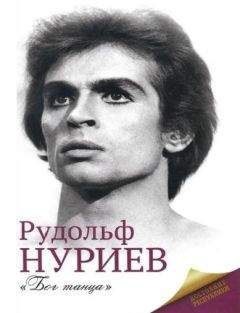и благоговением. Жюд даже перенял от Нуреева манеру ругаться по-русски во время репетиций. «Мир балета очень сложен и жесток. Чтобы танцоры выполняли все, что говорит хореограф, необходима строгость и дисциплина», – объяснял он в интервью российской газете «Известия».
То, что хореограф Нуреев ориентировался на молодежь, даже вызывало обиду признанных этуалей и стало еще одной причиной его многочисленных конфликтов с администрацией театра. Решать конфликты Нуреев так и не научился, он сразу взрывался и переходил к ругани… в результате через три года Парижская опера не возобновила с ним контракт [83].
Однако в 1991 году его попросили заново поставить «Ромео и Джульетту». Роль Меркуцио он поручил Николя Ле Ришу, и почувствовав возможности молодого артиста, он с ним выучил роль Ромео всего лишь за пять дней. Впоследствии Ле Риш сделал успешную карьеру, выступал на лучших сценах Европы и Америки и стал лауреатом многих престижных премий.
Глава седьмая. Оборотная сторона таланта
«Все, что у меня есть, – любил говорить Нуреев, – натанцевали мои ноги». Начав карьеру на Западе со смехотворного заработка в четыреста долларов в неделю, достигнув мировой славы, Нуреев всегда требовал (и получал) баснословные для балетного танцовщика гонорары. По крайней мере, так писали газеты.
Однако, как бы он ни напрягался, одни выступления не могли дать Нурееву его невероятного богатства: максимальная цена выхода составляла в то время не более десяти тысяч долларов. Но Рудольф Нуреев обладал еще один талантом – выгодно вкладывать и приумножать свои средства, при этом почти не выплачивая налогов.
Его финансовое чутье сделало бы честь профессионалу, решения о вложении своих средств он всегда принимал сам. Причем он сумел продумать схему их размещения таким образом, что платил довольно небольшие налоги. Для этого он даже принял австрийское подданство, так как эта страна отличалась своим мягким налоговым законодательством.
Но именно из-за этих сложных схем никто не мог точно подсчитать размер его состояния. Оценивали его по-разному, от двадцати пяти до восьмидесяти миллионов долларов – точной цифры никто не знает.
Отдельной страстью его были дома и квартиры: в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне… Можно сказать, что Нуреев коллекционировал недвижимость, хотя по большей части сам жил в отелях. Кроме особняка в Лондоне, ему принадлежали вилла в коммуне Ля Тюрби на Лазурном Берегу вблизи Монако, шестикомнатная квартира в Нью-Йорке в фешенебельном «Дакота-билдинг», квартира в Париже на набережной Вольтера, большое старинное ранчо в штате Вирджиния с парком, фермой, речкой и мельницей, вилла на одном из Карибских островов и сразу три острова – архипелаг Ли Галли.
«В остров Ли Галли он просто влюбился, – вспоминал его личный массажист и импресарио Луиджи Пиньотти. – Им владел прежде русский танцовщик балета Леонид Мясин, у которого в то время были огромные финансовые проблемы – даже пришлось отправить ему деньги на билет, чтобы он мог приехать к нам обсудить сделку. На острове было две виллы: одна в центре с античной архитектурой, которая очень нравилась Руди, другая – на краю. Мы все там реконструировали, установили фильтры для очистки морской воды, провели отопление – он уже был болен и нуждался в тепле, оборудовали площадку для вертолета, чтобы он мог экстренно добираться до больницы в случае необходимости» [84].
Все дома и квартиры Рудольфа Нуреева были прекрасно обставлены и наполнены всевозможными ценными предметами: персидскими коврами, картинами, скульптурами и бронзой. Он коллекционировал старинные карты, этюды обнаженной мужской натуры, ноты, книги, картины старых мастеров, вычурную резную мебель, бронзу, восточные ковры, старинные музыкальные инструменты…
В одной из квартир вместо обоев была использована китайская рисовая бумага XIX века с изображением жанровых сценок. То был подарок Джекки Кеннеди. Другая квартира напоминала музей: там повсюду были развешаны картины и гравюры с мужским ню. А еще Нуреев не слишком жаловал электрический свет, поэтому в его особняках всюду были канделябры со свечами.
Однако, по воспоминаниям Глена Тетли, его дома были «красивыми, но пустыми. В них не ощущалось уюта». Когда какой-то журналист попросил описать одну из его вилл, Нуреев не смог этого сделать. Он попросту не помнил! В своих особняках он бывал самое большее несколько дней в году. Даже приезжая на одну из своих вилл, он ютился обычно только в одной комнате. И очень много говорил по телефону. Так что несмотря на обилие недвижимости, дома у него не было.
Нуреев не любил выбрасывать вещи. В его особняках хранилась также огромная коллекция его балетных костюмов. К тому, как он выглядит на сцене, он относился крайне внимательно. Михаил Барышников, будучи у Нуреева в гостях, удивлялся, что тот может говорить об одежде для сцены часами. Что он вникает даже в такие детали, как плотность вязки и расположение вытачек.
Нуреев считал костюм неотъемлемой частью спектакля. С помощью костюма он умел выправить недостатки фигуры, сгладить погрешности техники. Он шил костюмы для сцены из самых дорогих тканей и заказывал их у самых известных сценографов и дизайнеров – Сесиль Битон, Эцио Фриджерио, Николаса Георгиадиса, Франка Скуарчиапино. Кроме того, он всегда сам подключался к работе и вносил свои правки, точно зная, что ему от конкретного костюма нужно. Он строго следил за их покроем и даже за плотностью эластика, из которого было сшито балетное трико: особая вязка должна была поддерживать мышцы.
И, конечно, Нуреев уделял много внимания тому, как его костюмы изукрашены. Он любил восточную роскошь – изобилие стразов и блесток. А вот гамму выбирал очень сдержанную: сочетание коричневато-охристых и зеленовато-синих тонов.
Если костюм ему подходил, то он носил его до последнего, буквально до дыр, заставляя костюмеров чинить и зашивать порвавшиеся трико и болеро. Эти костюмы – роскошные, вышитые стразами и бисером, – он планировал завещать музею своего имени.
Вне сцены Нуреев, по мнению большинства тех, кто его знал, был просто невыносим. Он не давал себе труда быть тактичным или соблюдать хотя бы элементарные правила общения. Нуреев начал свою карьеру на Западе со скандала из-за своего неожиданного отказа возвращаться в Москву и продолжил ее эпатажем – и на сцене, и вне ее. Он грубил своим партнерам, хамил администрации театров, отвратительно вел себя с журналистами. Те в ответ со вкусом расписывали подробности его жизни, смакуя его срывы и публичные ссоры.
Его поведение вызывало недоумение даже у близких друзей. Ролан Пети говорил: «Я не понимал, как этот “бог”, при свете дня гениально танцующий на сцене, с наступлением темноты