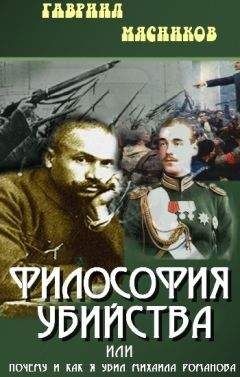И ежечасно, ежеминутно, где бы ни был в камере ли, во дворике ли, стучит в висках острый клюв: когда? куда? В транзитке скрещиваются самые разные направления — кто с Востока на Запад, но больше, конечно, с Запада на Восток, на север Урала. Многие знали, куда именно: Омск, Краслаг, Улан-Батор, Чита. А может, не знали — болтали, тут модно выдавать себя за всезнающего. Мой ближний парнишка «подымается», как он говорит, с Верхнетуринской малолетки в Курган. Кто с зоны на поселение, кто в лагерную больницу, кто из больницы. Тот оголтелый Башир-дербанщик (он ходит в «милюстиновом» костюмчике, гоголем, присосался к блоти наверху) возвращается из Тагильской больнички в родную 47-ю. Это новая зона, она в Каменск-Уральске. Общего режима, значит теоретически и я могу туда попасть. При одной мысли дыханье прихватывает. Это ж, считай, мой родной город. Я там в школу пошел, в первый класс. Году в 55-м мы переехали в Челябинскую область, но и сейчас в Каменск-Уральске где-то живет мой шальной отец, бабушка, тетка, племянницы, целый выводок их родни. Туда попасть — это ж к себе домой. Действительно, неисповедимы пути Господни: через четверть века возвращаюсь на круги своя зеком. Догулялся, созрел. Да нет, быть не может, чтоб меня на 47-ю. Менты наверняка в курсе и потому можно с уверенностью вычеркивать Каменский вариант. Чуда не будет. Благо и помимо Каменской зоны выбор большой. Две отчие зоны в самом Свердловске: 2-я и 10-я, одна где-то в Невьянске, да мало ли их в уральском горном краю! Скорее всего, наш московский этап готовят в какие-то из этих, но никто не исключал и того, что могут отправить дальше.
Впрочем, на второй день в этой камере уже не имело значения куда, все заслонил один вопрос — когда? уже на второй день мы изнывали от духоты, жары и неимоверной теснотищи. Невыносимо. Время каленое, тягучее стояло на месте. Любой бы из нас эти сутки, не задумываясь, отдал бы за месяц в другом месте, пусть еще хуже, но только не в этой камере, на все ведь пойдешь без разбора, чтоб не подохнуть. Говорили, что перед нашим этапом заходил в камеру мент и ответил на жалобы так: «Кто больше двух недель, пиши заявление». Кажется, есть инструкция, по которой транзитных нельзя задерживать более двух недель. Но вряд ли какая инструкция предусматривает превращать камеру в адское пекло, в таких условиях уже десять дней — чудовищный срок, хуже карцера, люди на глазах превращаются в анемичных, синюшных доходяг и вот они, кто больше десяти дней, подходят ко мне: «Профессор, напиши». (Ученое звание здесь дают проще, чем на воле. Достаточно очков. Кликуха прилипла прочно). Освободили стол и с почтением обступили, как в старину на восточном базаре. Я строчил заявление, смотрел приговоры, писал жалобы. Обычное занятие. Но не безобидное. Бывалые зеки предупреждают: «Хлебнешь горя, менты писателей не любят». Я это знал. А что делать? Не протестовать нельзя, не помочь нельзя. Только просил, чтоб переписывали своей рукой.
Из нашего этапа чаще около меня вертелся Алеша Котов, тот самый, с кем произошла стычка на выходе из Пресни. Корчит вора, где-то на даче у него «рыжье закурковано» (золото спрятано) и по этой причине, кровь из носу, до нового года ему надо выйти бы на «химию».
Но было одно интересное знакомство. Точно не помню, кажется, Михаил Васильевич Воробьев. Седой, лысоватый, склонный к полноте, а теперь рыхлый, отекший. Он обретался на полу, напротив от нас: в углу стены и боковых нар. На второй или третий день подходит ко мне, спрашивает: «Вы не из Лефортова?» Отвечаю, что был там. «А вы?» А он, оказывается, прямо из Лефортова, и путь держит куда-то далеко на восток. Приговорили его к шести, что ли, годам усиленного режима по делу, связанным с корейским шпионом. В Лефортове я слышал об этом деле. Кореец, северный, скупал, где мог какую-то секретную электронику и отправлял домой. Вот тебе и братская республика, народно-демократическая. Михаил Васильевич о корейце не знал. Он заведовал то ли лабораторией, то ли производством в одном из закрытых предприятий под Загорском (кажется, однажды я там выступал с лекцией) и, действительно, продавал налево какие-то детали одному нашему человеку, не подозревая, что тот работает на корейского шпиона. Человек тот влип, раскололся, в дело были втянуты другие люди, в том числе и Михаил Васильевич. Шесть лет — легко отделался, грозило больше. Шпионаж от него отшили. Возраст, безупречное прошлое смягчили участь. А не будь корейца, считает Мих. Вас., ничего бы не было. Отпускал детали, хоть и налево, но всего раз или два и по документам, наживы, говорит, никакой, даже не думал об этом. В общем, здорово ему не повезло, попал как кур в ощип. Не чает уже воли, хоронит себя заживо — ни лет, ни здоровья нет. Жалко старика. И все-таки держится до последнего. Убит, но не сломлен. «А почему вы на полу, а не на нарах? Идемте к нам, потеснимся», — предлагаю. Не хочет. На полу прохладнее, у него сердце слабое, меньше клопов, да и просторней все же.
Вот он-то, Мих. Вас., и рассказал мне кое-какие подробности про Сосновского (несколько лет вспоминаю его подлинную фамилию — та ли?) и Эдика Леонардова. Ведь Сосновский уверял нас тогда с Володей Барановым, что из Лефортова он уйдет на свободу или, в крайнем случае, на «химию», что за него четыре Героя хлопочут. Потом я узнал, что возвращенный в Лефортово в качестве свидетеля, он заложил всех, кого мог, свалил даже свое на друзей, собственную жену не пощадил — лишь бы самому выкарабкаться. А ему, оказывается, не свободу и даже не «химию», а дали еще два года к шести. И поделом подлецу, да еще на этапах, если застукают, несдобровать. Другое дело Эдик Леонардов. При мне он с гарантированных десяти выторговал у следователя два года и предсказал себе в итоге шесть лет. Точно рассчитал. Мих. Вас. еще находился в Лефортове, когда судили Эдика. Все, кто знал или слышал о Лефортове, самого лучшего о нем мнения. Поразительный пример, когда, не теряя достоинства и репутации, за счет умения вести себя на допросах, можно скостить огромный срок почти наполовину. И такое, оказывается, бывает. А ведь пятая ходка, свыше ста тысяч наживы — за такое вышак не редкость. За 26, за 12 тысяч хищения, я знаю, приговаривают к девяти, а то и больше годам. Но это когда ведут менты или прокуратура. По общему мнению, за те же вещи ГБ дает меньше, и уж совсем снисходительны, когда вместо расчетного иска обвиняемый дает больше денег, т. е. откупается и, конечно, когда грамотно держит себя на следствии, что дает возможность следователю быстро и чисто закрыть дело да еще со сверхприбылью. ГБ это ценит и по уголовным делам с ними можно договариваться. Эдик считал, что ему повезло, что попал не к ментам, а в ГБ. Как видим, не ошибся.
Каждый день, а то и по нескольку раз в день, небольшими группами кого-то уводили на этап, кого-то заводили. Народ менялся, но теснотища не убывала. На второй или третий день узнал я, что те, кто забился под нарами — «петухи» или, как их еще называют, «гребни», «голубые», т. е. «пидарасы». Их почти не было видно. Они и ели под нарами, на прогулке я их не видел. Выйдет к «толкану» — обязательно кто-то ударит или бросит чем. Поэтому, наскоро справив нужду, этот несчастный сразу стремился под нары и без крайней нужды не высовывался. Я помню троих. Все молодые парни, почти мальчишки. Один, говорят, с воли пидор, других «опустили» в тюрьме, еще в следственной камере. Среднего роста парень, плотный, с черными усами — этого за то, что он изнасиловал малолетку-девочку. Ему лет 20, ей, как он говорит, лет 15 и вообще, говорит, не насиловал, а вмешались родители. Можно поверить, такое нередко бывает. Но если суд не разбирает, то тюрьма и подавно — статьи за изнасилование зеки не любят. До суда сидел он под следствием в Тагильской тюрьме, известной беспределом. Там его самого изнасиловали. Тагильская тюрьма — главный поставщик таких вот «голубых» и большинство, главным образом молодые ребята, ни за что страдают. Там это основной вид развлечения или найдется борзый — любитель, возьмет верх в камере и устраивает себе гарем. Один такой в Тагильской тюрьме, говорят, изнасиловал человек 60. Явно сам педераст, но тюрьма за такового считает лишь пассивных, т. е. тех, кого пользуют. Однако же по зековским понятиям так «опускать» — страшное наказание и без серьезной причины этого делать нельзя. А кто делает, с ним самим поступают также. В конце концов разобрались и с тем «рекордсменом» — бросили самого под нары.