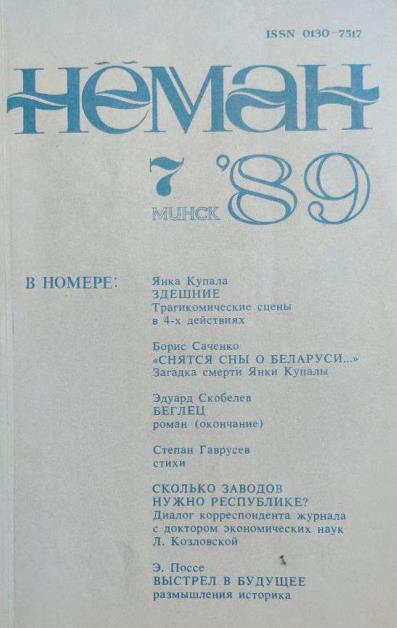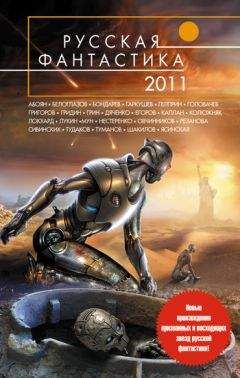«Собрание сочинений» не выглядело неполным, в 1932 г. был издан новый третий том, уже без «Тутэйшых»… Несомненно, события тех дней в жизни Янки Купалы, как и в жизни литературы, и всего нашего народа, надо исследовать, исследовать вдумчиво, с учетом времени и многого-многого иного… Между прочим, сам Купала не случайно в те нелегкие для него дни заговорил о мудром историке, который придет и разберется во всем по-настоящему, скажет правду о времени, о людях и событиях:
Прыдзе новы — а мудры — гісторык,
А ён прыдзе — ужо ён ідзе —
I сказ дзіўны, праўдзівы ад зорак
I да зорак аб нашых прасторах,
Аб падзеях, людзях павядзе.
Будем надеяться и верить, как надеялся и верил когда-то в 1931 году Янка Купала, что он, этот историк, придет…
2.
Тяжелее тяжкого, сложнее сложного был и последний год в жизни поэта.
Война застала Янку Купалу в Каунасе, где он остановился по пути из Риги,— ездил вместе с М. Лыньковым и П. Бровкой на Первый съезд писателей Советской Латвии. В тот же день поездом, который всю дорогу бомбили фашистские самолеты, он добрался до Минска. Сразу же, захватив Владиславу Францевну и кое-что из вещей, выехал на машине на Оршанщину, в Левки, где у него была дача,— думал, что дотуда немцы не дойдут.
Но немцы наступали, и Янка Купала на той же самой подаренной ему правительством машине вынужден был двинуться дальше на восток. Как пишет в воспоминаниях М. Лужанин, «Владислава Францевна и шофер Яртимик, который вез Купалу в Москву и в Казань, рассказывали, что, покидая Минск, прощаясь с излюбленными местами над Днепром в Левках, Купала словно окаменел, от него нельзя было добиться ни единого слова... Сколько горьких дум передумал он…»
6 июля Янка Купала приехал в Москву, временно поселился в гостинице «Москва».
«Я ждал его с нетерпением и тревогой,— вспоминает русский советский писатель Б. Емельянов.— Стало уже известно о том, что Минск превращен немцами в груду развалин, что сгорели дома Янки и его друзей…
Голос Янки по телефону показался мне чуть надтреснутым и беспокойным.
— Приезжай, если свободен, очень нужно.
Волнуясь, торопясь, я бежал к нему через Красную площадь.
У себя в номере Янка был не один — порывисто хлопала крышкой чемодана жена Янки — Владислава Францевна — тетка Владя, из угла в угол ходил по комнате Янка, а в углу, прямой, спокойный, как будто удивленный необычайностью встречи, сидел Якуб Колас.
Я пристально смотрел на Янку и Коласа. Огромное несчастье настигло каждого из них внезапно и страшно.
— Город мой горит,— сказал Янка Купала.— Все, что построили,— погублено, выгорели целые улицы.
— А твой дом?
— В наш дом бомба упала,— сказала тетя Владя».
К. Буйло, видевшая Я. Купалу в те дни, писала, что «Купала был нездоров, но больше всего у него болела душа. Он расставался с Беларусью в годину ее большого горя, которому тогда нечего было противопоставить, и это нестерпимо мучило поэта. То, что фашисты захватили Беларусь, отразилось на нем исключительно тяжело. Купала постарел, помрачнел, стал очень молчалив… […]
Он жаловался, что работать ему трудно. На Москву днем и ночью летели вражеские бомбовозы и сбрасывали бомбы. Объявлялась тревога, и его заставляли спускаться в бомбоубежище. Это всегда вызывало споры: Купала отказывался идти в бомбоубежище, говоря, что если бомба попадет в дом, то спасения все равно не будет — завалит двери и оттуда уже никак не вылезешь. Разумеется, это говорилось только потому, что ему, больному, трудно было вставать с постели, одеваться и впотьмах идти в подвал, сырой и холодный».
В июле сорок первого года в Москве с Янкой Купалой встречался Максим Лужанин:
«Иван Доминикович, опершись на локоть, лежал на диване. Повернул на шаги голову, оторвав на секунду взгляд от окна, за которым стоял ясный, без облачка, день. Чуть-чуть приподнялся.
— Лежите, не беспокойтесь, дядька Янка.
— Лежите! — с горечью повторил он.— Знал бы ты, сколько людей полегло. Как луг косой, за один день оголило. Я всю землю нашу проехал. Все с места стронулось. Только цветы цветут у дороги. Синие… Как глаза человеческие… Кажется, земля смотрит тебе вслед…
И, чтобы не показать слез, лег лицом к стене. […]
…Купала остановился у окна, лицом к двери.
— И та, что на свет пустила, осталась там.— Купала не произнес «мать», проглотил давящий комок.— Обе в неволе очутились. И та, что родила, и та, что слово в руки дала. Одной, возможно, в живых нет, а вторая снова в крови. И от кого она только кровью не исходила!»
В Москве Купале жилось трудно. Не только оттого, что он был болен, что его терзали нелегкие думы, но и «потому, что у него не осталось ни кола, ни двора, ни средств на сколько-нибудь сносное существование. А просить помощи он не мог» (Б. Емельянов). Ничего удивительного, что, пожив некоторое время в Москве, он выехал в Татарию, на Волгу. Там, в пригороде Казани, он остановился в деревне Печищи у директора мельзавода И. Я. Наякшина, там и жил с небольшими перерывами, связанными с различными поездками, до самого июня 1942-го. В письме к Б. Емельянову (8.V.1942 г.) Я. Купала признавался, что «по приезде из Москвы под Казань я был прямо в убийственном настроении, потом болел — грипп, ревматизм и всякая другая чертовщина». И далее: «Живу я случайно под самой Казаныо по другую сторону Волги, при мельнице с разрешения очень приятного директора. Вышло это потому, что… не смог переехать через Волгу из-за наступивших морозов, а потом, когда можно было переехать, я все же остался на месте по соображениям бытового характера.
Живется неплохо, пайком и прочим вполне обеспечен. Очередей никаких не знаю».
О том же самом сообщал (8.V.42 г.) Я. Купала и в письме к И. А. Крупене (тогда заместитель председателя СНК БССР) и Т. С. Горбунову (тогда член Президиума Всеславянского комитета, ответственный секретарь редколлегии журнала «Славяне»): «Живу я тут хорошо, паек меня вполне