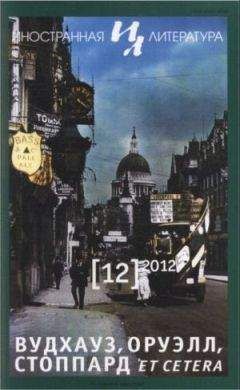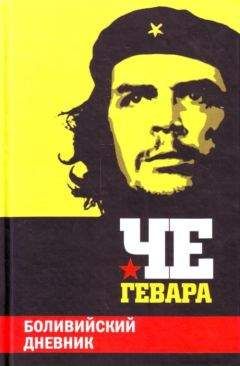24 мая Айлин отправила телеграмму его родителям в Саутволд: «ЭРИК ЛЕГКО РАНЕН БЫСТРО ПОПРАВЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЕТ ПРИВЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ НЕ О ЧЕМ АЙЛИН» Но одновременно она попросила Коппа подробно поговорить с лечащим врачом мужа и описать все симптомы ее брату, крупному врачу, доктору Эрику О’Шоннесси, мнением которого она очень дорожила. Копп послал подробное письмо, отметив мимоходом, что чувство юмора у пациента не пострадало, и присовокупив подробный рисунок раненного горла. Ясно было одно — воевать Оруэлл уже не будет и потому в Испании ему больше делать нечего.
После нескольких переездов из одного госпиталя в другой Оруэлла как выздоравливающего перевели в санаторий «Маурин» под Барселоной, принадлежащий ПОУМ. Там его навещали Айлин и Копп, оттуда 8 июня он написал письмо своему давнему приятелю — еще по начальной школе и по Итону — Сирилу Конноли, тоже ставшему литератором и тоже побывавшему в Испании. В письме Оруэлл сообщал, что намеревается вернуться домой недели через две, как только получит увольнение из армии; что, невзирая на предсказания врачей, все же надеется, что голос его восстановится; что собирается написать книжку о войне и что в Испании он впервые по-настоящему поверил в социализм. Ужас того, что происходило вокруг, заставлял его из-за всех сил держаться за те чувства воодушевления и товарищества, которые он испытал в ополчении.
На следующий день — 9 июня — они с-Айлин отметили первую годовщину свадьбы, а еще через несколько дней Оруэлл отправился собирать бумаги, необходимые для увольнения и последующего отъезда домой. Еще слабому после ранения, ему пришлось пять дней ездить по госпиталям, разбросанным по Каталонии, на медленных испанских поездах, которые и в лучшее-то время никогда не ходили по расписанию. Измученный, он наконец получил все нужные справки и, вернувшись 20 июня вечером, решил не ехать обратно в пригородный санаторий, а пойти в барселонский отель «Континенталь», где жила Айлин.
Айлин ждала его в фойе. Со светской улыбкой она, небрежно поднявшись с дивана, подошла к мужу, обняла его и прошипела в ухо «Уходи!» Он не понял. Тогда она повела его к выходу. По дороге — на лестнице и у лифта — еще два человека, завидев его, сказали, что нужно немедленно уходить. Он все не понимал. Только выведя его на улицу, Айлин сообщила, что ПОУМ запрещена, ее здания захвачены, и все, кого могли арестовать, — арестованы, а некоторые уже и расстреляны.
Выяснилось, что 15 июня, в день, когда Оруэлл поехал собирать справки, Андреса Нина арестовали прямо у него в кабинете. На следующий день, 16 июня, ПОУМ была объявлена вне закона, а принадлежавшие ей помещения конфискованы (то, что Оруэлл не вернулся в санаторий «Маурин», оказалось большой удачей). Еще через пару дней все сорок членов исполкома партии были в тюрьме, а всего только в одной Барселоне было арестовано не меньше четырехсот поумовцев — на самом деле, размышлял позднее Оруэлл, число их наверняка было гораздо больше. Полиция даже забирала раненых ополченцев из госпиталей. На свободе оставались Джон Макнэр и фронтовые товарищи Оруэлла, бывшие с ним в санатории, Роберт Уильямс и Стаффорд Коттман.
Почти всех остальных знакомых Оруэлла в Барселоне, как рассказывала Айлин, «взяли».
Взяли генерала Хосе Ровира, командовавшего 29-й дивизией. Взяли Гарри Милтона, американца, который нес Оруэлла на носилках, когда того ранили. Взяли Жоржа Коппа. В это Оруэлл никак не мог поверить — он знал, что Копп уехал в Валенсию, где находилось правительство республики. Оказалось, что его друг вернулся накануне и привез из военного министерства письмо полковнику, руководившему техническими операциями на Восточном фронте. Зная, что ПОУМ вне закона, он все же, очевидно, не предполагал, что его арестуют во время исполнения срочного военного задания, и зашел в «Континенталь» за вещами. Айлин в отеле не было, а сотрудники отеля, задержав его какой-то болтовней, быстро вызвали полицию.
Айлин, работавшую в штабе Независимой лейбористской партии, связанной с ПОУМ, не арестовали, очевидно решив использовать ее как «наводку» для последующего ареста не только ее мужа, но и Макнэра. Тем не менее 18 июня шесть человек в штатском пришли под утро в ее номер с обыском. Обыск длился два часа. Забрали дневники Оруэлла, письма читателей с откликами на «Дорогу на Уиган-Пир», вырезки из газет, все книги. Однако паспорта и чековая книжка, предусмотрительно спрятанные Айлин под матрасом, остались целы, поскольку Айлин во время обыска лежала в постели, и то ли застенчивость, то ли благородство помешали осуществлявшим обыск испанцам потревожить женщину, да к тому же иностранку. Оруэлл узнал позднее, что все его вещи, оставленные в санатории Маурин, тоже были взяты — включая сверток с грязным бельем. Очевидно, шутил он позднее, они думали, что там что-то написано невидимыми чернилами.
Однако пока Айлин рассказывала ему о том, что произошло, ему было не до шуток — похоже было, что нужно скрываться.
Эта перспектива показалась мне отвратительной. Невзирая на бесчисленные аресты, я никак не мог поверить, что мне грозит опасность… Кому нужно меня арестовывать? Что я сделал? Я даже не был членом партии ПОУМ. Конечно, во время майских событий я был вооружен, но точно так же вооружены были еще примерно сорок или пятьдесят тысяч человек. Кроме того, мне очень хотелось как следует выспаться. Я готов был рискнуть и вернуться в отель. Жена и слышать об этом не хотела. Терпеливо она объясняла мне ситуацию. Неважно, сделал я что-то или нет. Речь идет не об облаве на преступников, а о терроре. Ни в чем конкретном я виновен не был, но я был виновен в «троцкизме». Одно то, что я служил в ополчении ПОУМ, уже было достаточным основанием, чтобы меня посадили. Английское представление о том, что ты в безопасности, покуда не нарушаешь закон, теряло всякий смысл. Здесь законом становилось то, что пришло в голову полиции[30].
Опыт бродяжничества помог Оруэллу найти убежище на ночь в разрушенной церкви. На следующий день, встретившись у Британского консульства с Макнэром, специально вернувшимся из Франции, чтобы не оставлять товарищей в беде, и восемнадцатилетним Стаффордом Коттманом, ускользнувшим из санатория «Маурин», он узнал новые страшные известия. Двадцатидвухлетний Боб Смилли был мертв — позднее объявили, что он умер от аппендицита, что для здорового молодого человека могло означать только одно: ему не оказали никакой медицинской помощи. Потом стала известна и другая версия: его убили в тюрьме — забили насмерть ударами в живот[31]. Гибель Смилли, «смелого и талантливого мальчика, бросившего университет в Глазго, чтобы сражаться с фашизмом»[32], при таких ужасных обстоятельствах навсегда осталась для Оруэлла самым ярким примером чудовищности происходящего.