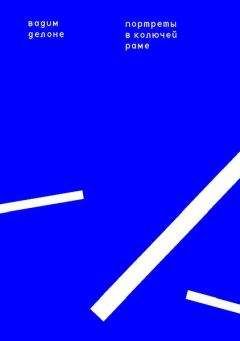– Ну ты, парень, совсем поддошел. Оно понятно, лагеря – они не для поэтов, нам попроще, мы к этому с издетства привыкли, – и сочувственно угощали сигареткой.
А я все думал: придет, не придет. Соловей тоже нервничал. Вечером он вызвал меня за барак и, отводя глаза в сторону, неожиданно спросил:
– А со шпорами что мне делать, политик?
– Как то есть со шпорами? – сначала не понял я.
– Ну что ты, не знаешь?
– Ах да! – наконец сообразил я.
Шпорами у нас называлось некое хитроумное сооружение, за которое шла непрерывная упорная война. Шпоры – это две хорошо отшлифованные самодельные пластмассовые гильзы, которые вшивали под тонкую кожу детородного органа. Ежели у кого-нибудь при детальном обыске или общупывании начальство эти шпоры находило, то их безжалостно вырезали, разумеется, без всякой анестезии и перевязок. Но чаще всего эту операцию производили при освобождении с зоны, если очередной блатной рая не сумел своевременно подкупить конвой. Я всегда недоумевал, зачем на столь болезненное мероприятие идти в лагерной зоне – баб-то все равно нет. Блатные отвечали что-то неопределенное: «На всякий случай… на воле специалистов нет… надо позаботиться, пока время есть». Не пугало их даже то, что на свободу они рисковали выйти с окровавленными и разодранными самыми чувствительными частями тела. Я как-то не сообразил, что у Соловья, как и у всех блатных, должны быть «шпоры», а он отчего-то стеснялся передо мной из-за этого обстоятельства.
– А что, Леха, мешают они тебе, что ли?
– Да нет, – поморщился Соловей, – это только хуевому танцору яйца мешают. Но ведь мы эту хреновину себе в хуй загоняем только для шалав. Сам знаешь, на воле блатной редко бывает, так чтобы помнили. Но одно дело – бляди, а тут вроде как любовь. Ежели все всерьез будет, так это – как бы издевательство с моей стороны. Ведь Валя после этой игры с прицепом по-нормальному уже не сможет, то есть сможет, но не тот расклад, как говорится. Что мне, вырезать их, что ли?
– Знаешь, Леха, – озлился я, – спроси у какого-нибудь сексопатолога, не могу же я все на свете решать. Да и потом, черт ее знает, может, она и вовсе не придет, а ты зря маяться будешь…
Жарким тюменским утром месяца июля нас с Лехой загонял конвой в разные рефрижераторы, я отправлялся таскать шпальный брус, Соловей – на новостройки коммунизма, но думали мы об одном и том же, и у обоих бешено дергалось сердце.
Вечером мою бригаду подвезли и загнали в жилую зону раньше, чем Лехину, пришлось ждать еще с полчаса. Наконец за железными воротами в окружении собак и вертухаев появилась худенькая фигура. Над серой массой лагерных роб, над бритыми лбами взметнулись две скрещенные ладони в торжественном приветствии. Встретившись, мы долго молчали.
– Не подозревает, что не ты письма писал? – спросил я.
– Не знаю, – ответил Лешка, – на разговоры особенно времени не было.
– Ну а что со шпорами?
– Не жалуется, но я, конечно, потом их напрочь выкорчую. Пока нечасто видеться придется – ничего, а там уж, когда постоянно – нельзя… А ты бы, кстати, политик, написал бы ксиву, теперь адрес есть верный – Валин. Придут с воли деньги – что-нибудь соорудим.
Я написал. Прошел месяц. Леха встречался с Валей раз в неделю. Один день ее чуть было не поймали сторожа секретных строек светлого завтра, но как-то все обошлось.
Денег, однако, не было. Я послал запрос, мне ответили друзья, что деньги были посланы. Я ничего не говорил Соловью, но он сам как-то погрустнел и не находил себе места. Недели через две он не влетел, как обычно, в жилую зону, а зашел как-то вяло и апатично.
– Выпей, – сказал он мне, доставая из сапога резиновую перчатку, наполненную водкой.
Выпили.
– В чем дело? – спросил я.
– Конец любви, – ответил Соловей.
– Что, вольный какой-нибудь ей подвернулся?
– Какой вольный! – отмахнулся Соловей. – На воле – все фраера. Такое редко бывает, чтобы путный и смелый на свободе жил… Не в этом дело. Из принципа сам все порвал.
– Из какого то есть принципа? – спросил я.
– Ты же знаешь, политик, есть закон – у своих воровать нельзя – крысятничество называется, а тут… Ну ты меня пойми, ты мне ничего не говоришь, но я-то знаю, что деньги пошли-поехали, но не доехали. Короче, расколол я сегодня Валю. Отчим, говорит, пьянь, отнял. Сестер и братьев, говорит, семеро. Отчим, конечно, отчимом, и дети детьми, но ведь мы бы сообразили, как ей помочь. Я же ей сказал – деньги придут для моего друга, поэта из Москвы. Жрать, конечно, всем хочется, но ты же здесь в запретной зоне кувыркаешься, как же так!
– Лешка, подожди! – взмолился я. – Там и денег-то всего сто рублей было!
– Дело не в этом, – поморщился Соловей, – деньги, не деньги. Ладно бы еще меня обманула, а то ведь я же ей сказал – для друга. Не видел я этих баб уже сколько лет, и еще четыре года не увижу. Пусть. Я дружбу на любовь не променяю. Хорошо хоть ты мне подсказал шпоры не вырезать, а то бы совсем дураком оказался – и безоружный, и без любви.
– Ну а она-то что? – я все как-то пытался угомонить его. – Она что говорит?
– Она не говорит, а рыдает, обещается деньги отработать и вернуть. Но я сказал, что незачем суетиться, долги прощаем…
Валя писала еще долго, я эти письма видел. Соловей отвечал на них сам, потом отвечать вовсе перестал…
Как всегда, мы пили чифир в его туберкулезном бараке.
– Слышишь, политик, это тебя касается, – сказал Соловей и протянул мне конверт.
Писала подруга Вали, тоже со стройки, просила простить. Писала, что Валя почти на грани самоубийства, что отчим – мразь, негодяй, что деньги отнял насильно…
– Простим все же, Леха? – спросил я с надеждой.
– Я – не прокурор, пускай прощают те, кому за это деньги идут. У нас тут у самих горя невпроворот. Думала, что лагерник все стерпит, перебьется, раз такой невиданный случай – любовь в тюрьме? Хватит об этом, поэт. Освобожусь, зайду с подарком каким-нибудь, чаю попить…
– Соловей, a что за подруга такая у нее объявилась? – спросил я, что-то смутно соображая.
– Подруга как подруга, тоже известку по стенам раскидывает.
– Рыжая, – уточнил я.
– А ты откуда знаешь? – засмеялся Леха. – Тоже вроде как «твоя»?
– А кто ее знает, – отмахнулся я, – с этой писаниной пойди теперь разберись, кто – чья…
– Да, тоже история, – усмехнулся Леха, – не то чтобы очень странная, но забавная. Когда она в окнах напротив объекта появилась, я сразу понял, что это Гешкины дела. Только где он ее раскопал, – оставалось неясным… Потом один из шоферов передает записку для Безымянова. Сам знаешь, у нас тут шофера свои, как в Кремле. От кого, спрашиваю, записка, хоть знаешь? «Как не знать, – усмехается, – приятель твой, Гешка, всю Тюмень на ноги поднял, ищи, мол, рыжую Люду, на стройке работает. А где ее найдешь! Рыжих полно, строек тоже, ни за какие деньги бы не взялся, но тут, сам знаешь, сидит парень давно, и еще сидеть. Всякий раз думаешь – неровен час, сам в ваш загон попадешь, кто тогда поможет… Две недели после работы по всему городу колесил – нашел! Теперь вот напротив работает, все в окно смотрит. Девки-напарницы все ей завидуют, хоть и сидит, мол, парень, а стихи ей пишет, почитать выпрашивают, лихие, говорят, стихи…»