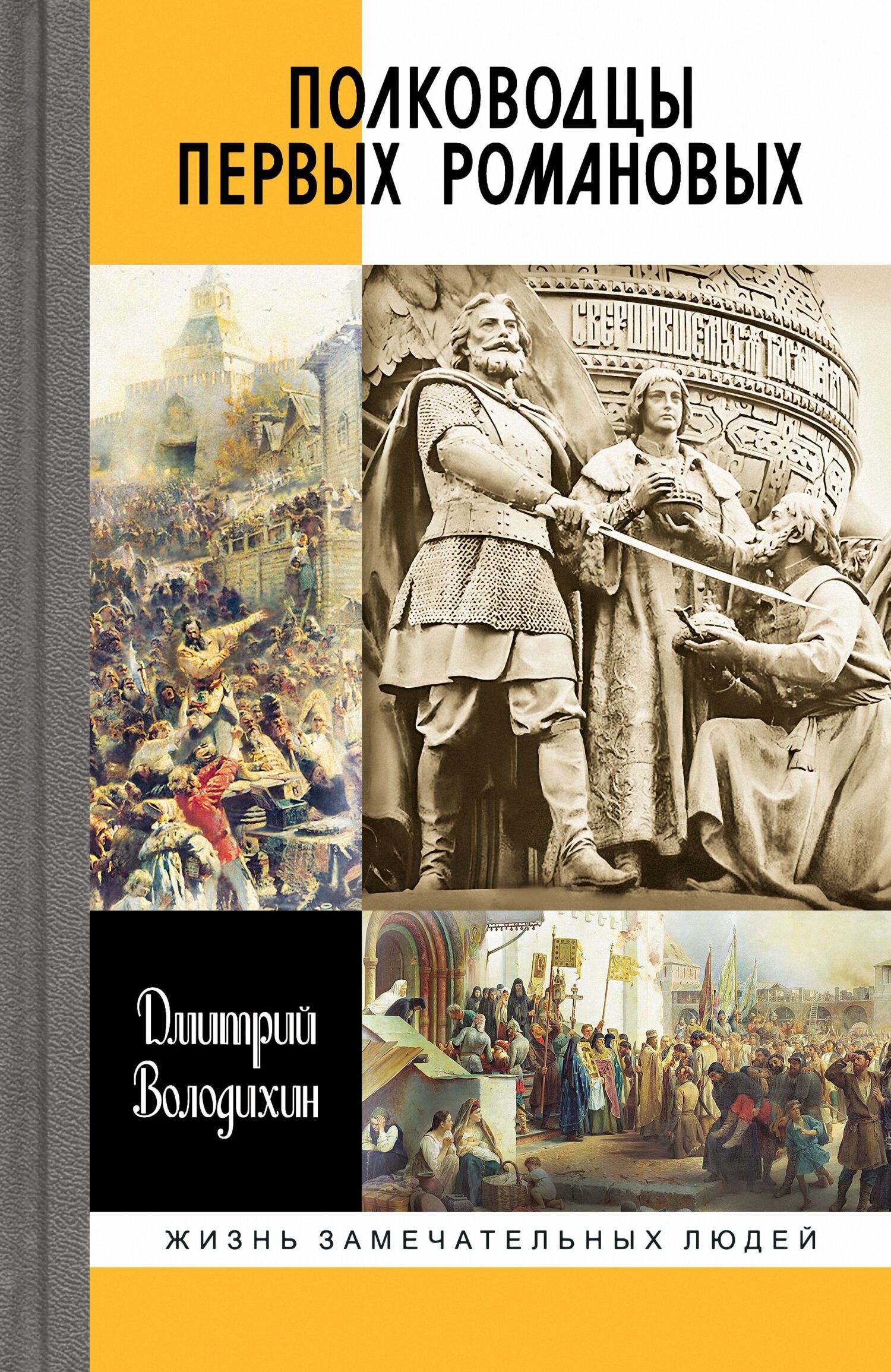заключил второй брак с Евдокией Александровной Горбатой-Шуйской, а это превращало Лыкова в довольно близкого брачного свойственника для представителей правящей династии. Борис Михайлович видел в Шуйских если не «родных», как Романовы, то уж точно «своих», и держался за них, проявляя преданность. А Шуйские, в свою очередь, опирались на него — как на «своего», когда у подножия трона других «своих», по смутной поре, оказалось не столь уж много. Государь Василий Иванович сохранил за ним боярский чин, полученный при самозванце, и щедро награждал за воеводскую деятельность земельными владениями… пусть и не доверяя до конца.
Похоже, семейные связи играли роль своего рода святыни для Бориса Михайловича. И он честно взялся за выполнение одного из финальных поручений царя, когда династия Шуйских уже закрывала глаза в смертной истоме и подходил ей последний срок. То есть после Клушинской битвы, где армия государева оказалась разгромлена поляками. Литвины и поляки добрались до Можайска, они нависали над самой столицей. К Москве двинулись также полки Лжедмитрия II. Надежда на то, что Шуйские удержат престол, оставалась… призрачная.
Тем не менее Василий Иванович все еще делал ходы на шахматной доске большой политики, и ему все еще требовались надежные полководцы. Лыков оказался надежнее прочих.
На помощь к царю Василию Шуйскому пришли вызванные им ранее «царевичи крымские» или, по другому источнику, «царевич, да Араслан князь Сулешев, и мурзы». Государь отправил к ним с небольшим войском своих бояр: князя Ивана Михайловича Воротынского, князя Бориса Михайловича Лыкова да окольничего Артемия Васильевича Измайлова. Под Серпуховом царские воеводы встретились с крымцами, очевидно, вручили им деньги и от имени государя «честь воздали». Затем объединенное русско-татарское войско атаковало отряды Лжедмитрия II в Боровском уезде, на реке Наре. По словам русского летописца, «был тут сильный бой, едва Вор (Лжедмитрий II. — Д. В.) усидел в таборах». Но боевое рвение крымцев скоро иссякло, они вернулись к вождям своим, а те сообщили Воротынскому, Лыкову и Измайлову, что «истомил их голод, стоять невозможно». Татары ушли, удержать их было невозможно. Что оставалось царским военачальникам? Они, как пишет тот же летописец, «отошли к Москве, едва наряд (пушки. — Д. В.) увезли, [спасая] от воровских людей».
Источник с вражеской стороны подтверждает: да, 20–21 июля 1610 года крымцы осуществили нападение, и тушинцам сначала со страху показалось, что их 20 тысяч. Но татары, потревожив несколькими неожиданными нападениями стан мятежников, то есть, в сущности, только обозначив боевую работу, скоро ушли. Неприятель послал за отступающими царскими войсками четыре полка, однако успел обрушиться лишь на незначительные отставшие отряды, захватив несколько десятков пленников. Прочие, по сведениям тушинцев, «разбрелись в разные стороны».
По русской же версии, как минимум, часть полевого соединения все-таки сумела организованно отойти в Москву, отвести к столице артиллерию, занять оборонительные позиции на стенах и у ворот.
Маловато оставалось у Василия Ивановича собственных сил после клушинской катастрофы. Самостоятельно, без крымцев, продолжать борьбу с воинством Лжедмитрия II он уже не мог. Тем более не мог драться с поляками. Вскоре он потеряет престол. Но его воеводы все еще делали свое дело, сохраняя драгоценные пушки, уводя из-под удара маленькую, распадающуюся армию, которая не знала, кому теперь служить.
Поражение, несомненно…
И все-таки нет от него горького послевкусия, как от суздальского несчастливого дела. У Серпухова русские полководцы исполняли свой долг, как им позволяла обстановка, хотя на их глазах рушилось царство, от правителя уходила власть.
За Серпухов Бориса Лыкова упрекнуть не в чем.
А вот то, что последовало за серпуховскими делами, ни чести, ни доброго имени ему не добавляет.
Царь Василий Иванович был свергнут в результате заговора и бунта. Позднее его отдали в руки злейшим врагам — полякам. Предали. Пытались насильственно постричь в монахи, но тому воспротивился сам патриарх Гермоген. И русский царь, так и не превратившийся во инока, отправился на унижение в чужую страну…
Источники не сообщают, участвовал ли князь Лыков в мятеже и прочих злодействах. Возможно, не виновен. Но он и не воспротивился всеобщей измене. Более того, остался в составе Боярской думы, которая превратилась в своего рода «временное правительство» на период междуцарствия. Называть это странное, самозванное аристократическое правительство стали Семибоярщиной. Вместе с прочими членами Семибоярщины Борис Лыков согласился принять на русский престол польского королевича Владислава, призвал целовать ему крест, разрешил польско-литовским войскам войти в Москву, занять Кремль. Вместе с прочими членами Семибоярщины Борис Михайлович инициировал выпуск серебряной копеечки, где этот самый «Владислав Жигимонтович» [44] прямо назван русским царем, хотя он даже до Москвы не добрался — отец его не отпускал. Заискивал Лыков и перед самим польским королем, поддерживая в Москве пропольскую администрацию, фактически оттеснившую от власти Семибоярщину.
Борис Лыков, преданно именуя себя холопом, выпрашивал себе земельных пожалований, и от имени королевича Владислава ему были даны села и деревни — а потом и от имени самого Сигизмунда III.
По отношению к земскому национально-освободительному движению князь выступил как враг, притом враг активно действующий. Ходил с прочими изменниками к патриарху Гермогену, оказывал на старика давление, требуя от него письма, обращенного к земцам, чтобы те разошлись по домам. Но Гермоген, пусть и ветхий годами, остался тверд. Он благословлял земцев «постоять за веру», ни в чем не уступая их противникам. Источник того времени повествует: «А как собрався Московского государства всякие люди Москву осадили, и польские люди ото всего рыцерства послали к патриарху Гермогену на Кириловское подворье полковника Казановского с товарыщи, да бояр князь Бориса Михайловича Лыкова, да Михаила Глебова [сына Салтыкова] да дьяка Василья Янова, а велели патриарху говорить и бить челом, чтоб он в полки к московским людям отписал, и велел им с полки от города отступить, а они пошлют к королю послов, чтоб он по прежнему договору королевича на Московское государство дал вскоре, а учинить бы с Московскими людьми о том срок, в кою пору послы по королевича сходят. И патриарх Ермоген в том отказал и говорил, что он их (земских ополченцев. — Д. В.) благословляет за Московское государство пострадать не токмо до крове, и до смерти, а их треклятых (то есть боярское правительство и пропольскую администрацию. — Д. В.) за неправду проклинает. И… святейшего патриарха Ермогена велели свести в Чюдов монастырь» {139}.
Борис Михайлович поставил подпись под несколькими позорными грамотами 1610–1611 годов. В частности, под той, где Семибоярщина требовала от смоленского воеводы Шеина сдать город польскому королю; под той, где то же самое требовали «продавить» от московских послов, отправленных в королевский лагерь под Смоленск; а заодно и под той, которая была отправлена в месяцы, когда Москву уже осаждало Первое земское ополчение: там высказывалось требование к костромичам — несмотря ни на что, хранить верность