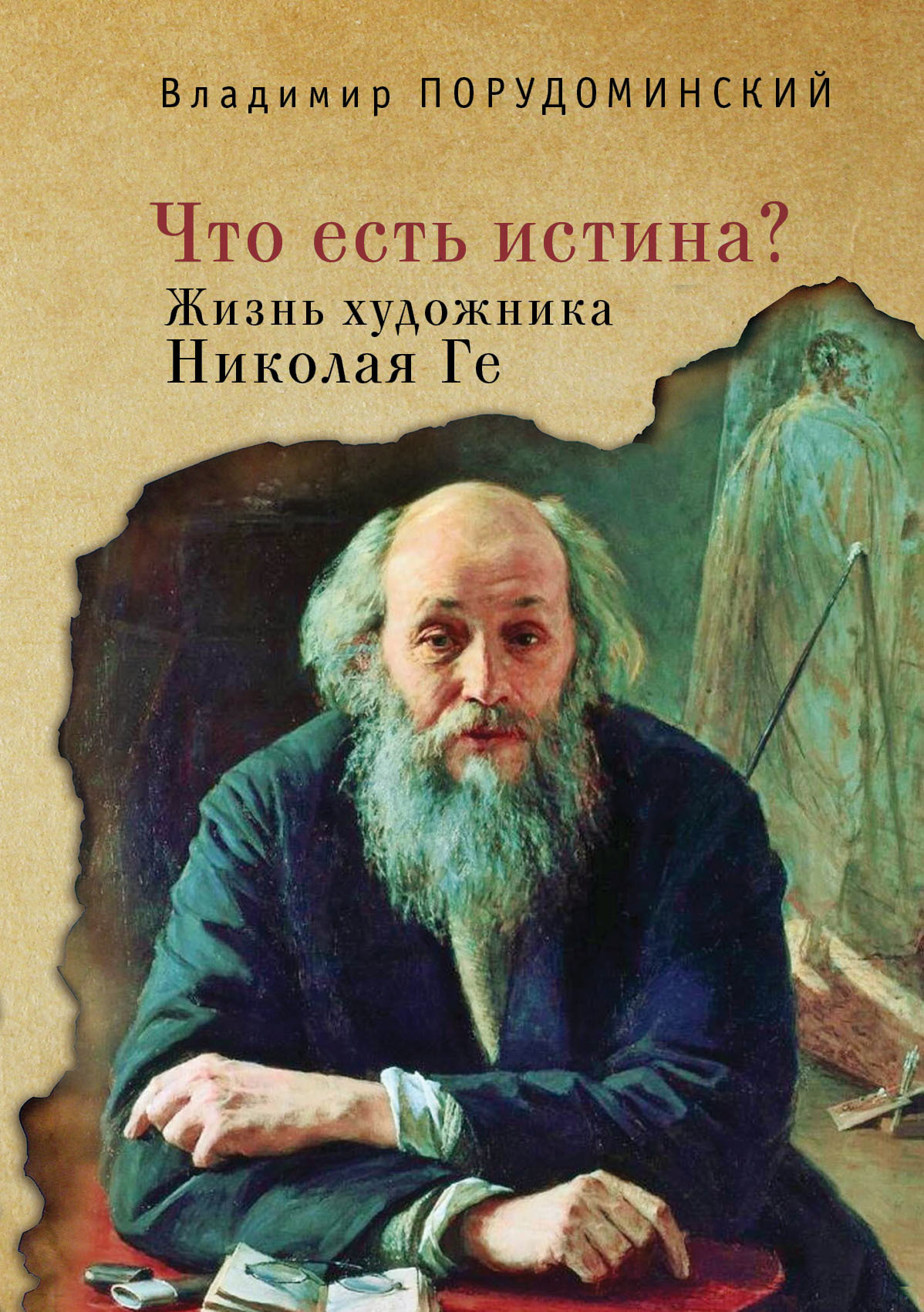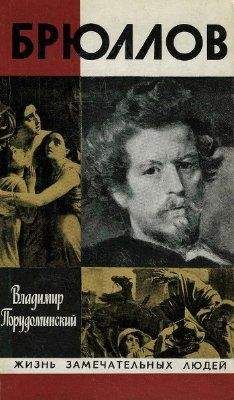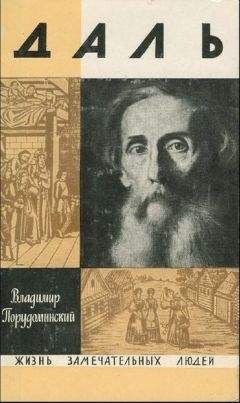больно, и что это дело важное, но женщина редкая, едва ли какая-нибудь, может понять, что носить и рожать духовно новое жизнепонимание и тяжело и дело важное…»
Николай Николаевич младший тоже страдает за отца, с хутора сообщает Толстому: «Единственно, что есть тяжелого, это положение отца, я один не могу все сделать, так как около находится мать, которая употребляет все средства, чтобы отравлять ему жизнь. Противно вспоминать и рассказывать все те мерзости, какие ему делают».
Но Николай Николаевич отец весело приписывает: «Не огорчайтесь за меня – Коля немного преувеличивает, – а на плохие минуты у меня есть Гоголь и Паскаль, эти два великие учителя. Не говорю уже о дорогом Христе. – Вот вы и видите, что я скорее счастлив, чем противоположное».
С того времени как Ге бросился в Москву «обнять» Толстого, родные и домашние без конца говорят, что он сделался капризен, нетерпим, упрям, невыносим, что он «злостно утверждает раздражающие вещи».
Ге всю жизнь чем-нибудь увлекался. Анна Петровна к этому привыкла, привыкла к зажигательным речам, к спорам в гостиной, к неожиданным поступкам, вроде лобызания нищего посреди улицы, появления на выставке в старом пальто или уничтожения почти готовой картины. Николай Николаевич делал это от души, не задумавшись, или потому, что не мог иначе; в обществе такие поступки расценивали как экстравагантность.
Анна Петровна рассказывала, что вот однажды Николай Николаевич собрался с ней в театр, но по дороге увидел красивый закат, – оставил жену, театр, пошел закат писать. Рассказ предполагает, что на другой день, когда закат будет не так красив, Николай Николаевич все же дойдет до театра.
После переезда на хутор, особенно после встречи с Толстым, становилось все яснее, что Николай Николаевич в театр не попадет. Что он вообще пошел по другой улице: театр, куда покупала билеты Анна Петровна, на этой улице не находится.
Хорошо, и даже красиво, гуляя с собратьями-художниками по Петербургу, в радостном порыве обнять нищего. Но нельзя целый день читать с нищими Евангелие и полагать это важным делом. Хорошо, и даже полезно, пойти с мужиками косить или повозиться на пасеке (на то деревенская жизнь), но нельзя убеждать собственного сына, что только мужицкая работа на земле принесет ему счастье. Можно, и даже благородно, сложить для бедных людей печь, но нельзя видеть в делании печей чуть ли не смысл жизни. Люди, близкие Ге, хорошие люди, тоже хотели делать добро, помогать другим, но нельзя же при этом забывать себя, семью.
Анна Петровна хотела спорить с Николаем Николаевичем, потому что доказательства были, конечно же, на ее стороне, – он мог в ответ лишь трясти Евангелием или ссылаться на Льва Николаевича, который имел дом в Москве, имение, приносившее доход. Но Николай Николаевич не спорил так, как принято было в обществе: опровергая аргументы или признавая себя побежденным. Он «злостно утверждал раздражающие вещи», оставался при своем, когда девяносто девять человек из ста признали бы правоту Анны Петровны или сына Петра Николаевича. Убеждения, к которым пришел Ге, были для него бесспорны, неопровержимы.
Публицисту, спорившему с учением Толстого, он сказал:
– Ч т о ты написал! Ч т о ты написал! Иди сейчас и отрекись, напечатай, что от своих слов отрекаешься. А то я пойду к твоей жене и дочерям и объясню, ч т о ты написал такое, и тебе перед ними стыдно будет.
Люди, которые хотели опровергнуть то, в чем он был убежден, говорили с ним на разных языках.
Он огорчался, когда старушка няня или кто-нибудь из крестьян, завидя тучу, просили: «Пронеси, Господи!» Он говорил:
– Вот и «возлюби ближнего своего»! Нам або мимо нас пронесло. А соседское поле пусть градом бьет.
Сам Ге готов был, чтобы не пронесло. Он даже хотел, чтобы не пронесло, чтобы вместо соседского град бил его поле. Здесь-то и начинались его разногласия с домашними.
Один из текстов, который он хотел выразить в картине о казни Христа: «Других спасает, а себя не может спасти…» Тема самопожертвования, самоотречения, которую он вычитывает во всех заключительных сценах Евангелия, от Тайной вечери и до Распятия, его глубоко волнует.
Вот так он хочет теперь построить, обновить свою жизнь. «Человек дороже полотна» – надо бросить кисть: пришел мужик, зовет чинить печку, тяга в дымоходе пропала. «Религия горшка» – нечего сидеть за столом, покрытым хрустящей накрахмаленной скатертью, и ждать, поигрывая тяжелой серебряной ложкой, пока слуга принесет тебе суп: надо взять тарелку, самому пойти на кухню; еще лучше – устроиться там за одним столом с работниками, хлебать с ними суп из одной миски; так всего правильнее, коли не можешь посадить всех у накрахмаленной скатерти.
Ге просил свою приятельницу, пейзажистку Екатерину Федоровну Юнге, очень хорошую, добрую женщину, дочь графа Федора Толстого, известного художника и скульптора:
– Голубушка, дорогая, ну сделайте это хоть один раз, ну сделайте для меня, – подите и вымойте бедному человеку пол.
Екатерина Федоровна смеялась – она очень любила Николая Николаевича со всеми его чудачествами.
А ведь говорили о бедняках, об их тяжелой жизни, о том, что надо им помогать. Но пол помыть – чудачество.
Ге думал: вот если бы каждый помыл другому пол, сложил печь, состряпал обед, сшил штаны… Еще лучше: если сложил печь, отложив работу над картиной; состряпал обед из последних запасов; не сшил – отдал свои штаны. Вот если бы люди жили любовно, для других…
Здесь начинались непримиримые разногласия Ге с близкими.
Из Москвы, из Ясной Поляны присылали на хутор новые сочинения Толстого. В списках. На хуторе собирались родные, знакомые, жадно читали, переписывали. Но для них это было прекрасное чтение (Лев Толстой!) – не руководство к действию.
Невозможно судить Анну Петровну, сына Петрушу или еще кого-нибудь. Они были хорошие люди, хотели добра ближнему. Они были умные люди. И благоразумные. Они понимали, что учение Толстого неисполнимо. Отказаться от себя для другого – наверняка себе во вред и редко другому на пользу. О силах общественных, которые взялись бы перестроить жизнь, они не думали. Но они точно знали, что одному человеку перестроить жизнь не под силу.
Толстой отвечал: да, не под силу, но ради борьбы со злом в мире и в себе стоит отдать одну свою жизнь.
Это означало посадить в землю семячко и ухаживать за ростком, зная, что не доживешь до первых плодов, а может быть, и до первых листьев, – и делать это в уверенности, что когда-нибудь все поступят так же и превратят землю в цветущий сад.
Не всякому такое под силу. Да и