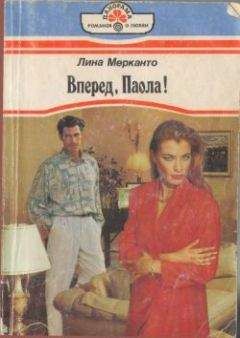Что бы он ни делал, он никогда не вел себя поверхностно. Например, когда Андрей ел, было впечатление, что он переходит в еду, оживляет ее; он называл еду «пищей творчества». Он сильно чувствовал очистительное действие дождя; дождь убирает отрицательную энергию. Помню, однажды в мае мы гостили у него в Сан-Грегорио. Наступило ненастье, потемнело небо, хлынул невероятный ливень. Он стоял у окна, и мне казалось, что он и есть сама вода. После грозы небо стало удивительно синим. Он предложил подняться на холм. Мы шли больше часа, а, поднявшись, уселись на камне, и он взял наши руки – мои и Ларисы – и сказал: «Давайте почувствуем этот момент». Домой мы вернулись, полные энергии.
Я русского языка не знала. Его помощник назвал мне несколько слов во время первых лечебных сеансов, потом мы уже с грехом пополам объяснялись по-итальянски. Но, несмотря на языковой барьер, мы полностью понимали друг друга. По этому поводу он потом говорил: «Видишь, для человека нет барьеров. Мы не знаем языков, но все друг другу говорим и без ошибок, потому что мысли не деформируются фильтром языка».
Мы занимались с ним подготовкой экспериментов по измерению человеческой энергии с помощью специальной съемочной аппаратуры. К сожалению, идеи эти не были реализованы, а один из созданных нами приборов попал сейчас в крупную римскую больницу, где идут исследования СПИДа.
Он торопился. Порой, когда мы выполняли упражнения релаксации, он говорил: «Нет времени, я очень тороплюсь», на что я отвечала: «Успокойся немного. Может быть, тебе и не надо много времени. Может быть, ты за 24 часа сможешь сделать работу 24-х лет, успокойся. Он смотрел на меня, говорил «правильно» и приступал к занятиям».
И однажды он мне сказал: «Я все успею сделать».
– В одном из стихотворений Арсения Тарковского душа выходит из тела…
– Это называется биотрансформацией. Андрей просил меня помочь его маме, друзьям и нередко говорил мне: «Давай пошлем энергию этому человеку». Они и не подозревают, что Андрей посылал им свою энергию. Такой он был щедрый. Настоящий дар – тот, о котором не говорят вслух. Поэтому я его очень любила.
– И его нетрудно было любить, правда?
– Он стремился к тому, чтобы всем было хорошо. Он весь был – понимание. Он искал в людях лучшее и был убежден, что это лучшее – есть. «Все в нас заложено. Нужно только найти это в себе, а не искать снаружи». Говорил, что не надо никому подражать – каждый из нас единственный и неповторимый. Он не любил сравнений – не потому, что был горделив, а потому, что сравнения убивают: когда я сравниваюсь с другим, я не смотрю на себя, не открываю себя, не созреваю как личность.
– Представим себе, что Андрей Тарковский жив и вернулся в Россию…
– Он тосковал по родине, и в минуты особого напряжения я говорила ему: «Ну, ладно, если хочешь, возвращайся к своему народу». «Не в этом дело, – отвечал он. – Мой народ будет страдать, пока не пройдет тоннель между старой жизнью и новой». То, что произойдет в России, он предвидел. «Чтобы это скорее наступило, нужно, чтобы кто-нибудь принес себя в жертву, взял на себя часть ноши Христа». Конечно, Андрей не помышлял о подражании Христу, но он глубоко осознал его завет, и свое кино считал каналом передачи этого завета. У него были трудные периоды в жизни, порой полное безденежье, его искушала возможность быстро сделать фильм и заработать деньги, но он отказывался от этого. Он был такой чистый!
Думаю, что, вернувшись на родину, он организовал бы школу самоискания. Нам кажется невозможным преобразование мира, потому что мы живем в незнании себя. Андрей считал, что причина человеческих заболеваний – высокий уровень шума в мозгу. Слишком много мыслей обитает в голове «неподконтрольно». В нас живет опыт прошлого, мы – его дети. Андрей не отвергал этот опыт, но говорил, что мы не должны быть его пленниками. Взяв у прошлого уроки, мы должны идти дальше…
– На ваш взгляд, почему он не смог жить в России?
– Он страстно любил свой народ, ужасно тосковал – до слез, до физической боли. Но он не терпел ошейника, за свободу он был готов заплатить даже отлучением от своего народа. Должна сказать, что он очень любил Италию; ему было жаль, что итальянцы часто не понимают свою землю, этот последний уголок Эдема.
У него была тоска по тому, что потерял русский народ. Он опасался грядущих бедствий и беспокоился, предвидя освобождение народа. Он страстно желал этого освобождения, но знал, что на пути к свободе народ может совершать ошибки. Если в начале жизни на Западе он думал в основном о России, то в последнее время он расщепил свою душу между Россией и Италией: и ту, и другую надо было спасать путем самопожертвования.
– Высказывал ли он свое отношение к смерти?
– Однажды он подарил мне изображение портала – большой полуоткрытой двери, из-за которой струился свет и сказал: «Это сделал я. Знаю, что открылась великая дверь». Спустя два месяца он заболел. Вот смысл его отношения к смерти – он видел в ней открывающуюся дверь. В последнее время мы с ним хорошо осознавали, что приближается его переселение в иное измерение.
Он знал, что умрет и как умрет. В последние месяцы я навещала его без чувства горечи – он заслужил только любовь и уважение за свою смелость, за поэзию, за великую душу… Как-то я спросила его: «Что делать – готовить тебя к жизни или к смерти?» и он ответил: «Готовь меня к смерти, это одно и то же». Он знал, что смерти нет, что его ждет переселение, к этому он готовился и говорил: «Я любопытный!»
– А как он представлял себе потусторонний мир?
– Как чрезвычайно красивый. Он говорил, что земля – это школа; и только наше отношение к ней делает ее адом или раем. У русских преобладает страдальческое отношение, может быть, потому, что духовность их была заключена в некие пределы, а душа – «связана». Но это страдание в каком-то смысле есть и свобода, ибо оно располагает к людям. Русский человек все переживает очень глубоко. В русском духе есть что-то детское, что еще не погибло, как у многих других народов.
– Мы знаем, что Андрей интересовался мистическим опытом разных народов…
– Он знал все, занимался медитацией в духе дзен-буддизма, чтобы в совершенстве владеть своим телом. Иногда он приходил ко мне после утомительного рабочего дня и говорил: «У тебя энергия смята, обеднена». Особым образом он помогал мне восстановить энергетическое поле, я это чувствовала физически. Во время медитации, в состоянии погружения у него проявлялся дар предвидения.
О землетрясении в Армении и о чернобыльской катастрофе он знал до того, как они произошли.
Он говорил, что наступает особое время – не время революций и митингов, но время для внутренних изменений: в один из грядущих дней мы пробудимся новыми, на новой земле. Хватит выходить на площадь и кричать, мы должны начинать с себя. Достаточно маленького самопожертвования для того, чтобы высвободить большую энергию для глубоких изменений в мире. Не все люди призваны поступать, как Андрей Тарковский, но от всех требуется это маленькое самопожертвование: не как мучение тела и духа, но как дар духу и телу. Новые поколения будут неизбежно пользоваться уроками Тарковского; а он будет посылать им сигналы разными способами. Его жертва плодотворна. Многое будет сделано, благодаря ему; он включил свет.
Помню идеи, которые им владели перед работой над «Жертвоприношением»: ведьма, через которую нужно пройти; ведьма – болезнь, которой нужно отдаться, чтобы совершить переход к новой жизни; болезнь – учительница, ведущая тебя куда надо. Думаю, он дал ведьме доброе лицо; болезнь – это призыв к изменению, это страдание души, выраженное через физическое недомогание. Болезнь может покинуть тело, так и не освободив человека от боли заблуждения.
«Жертвоприношение» он задумал давно, еще в России. О главном герое он говорил мне: «Это не персонаж картины должен умереть, это я должен. Но время еще не пришло».
За двадцать дней до смерти он попросил, чтобы я с детьми пришла к нему на виллу в Арджентарио. [79] Он был веселым, щедрым, красивым… Не хочу пересказывать то, что он говорил тогда – слова, которые будут поняты посторонними слишком поверхностно…