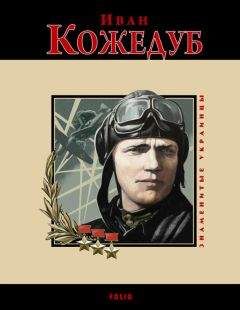В эти трудные годы не раз приходилось отстаивать свою независимость от посягательств старших ребят на добытые трофеи, будь то «цацки», по выражению матери, всегда хранимые в кармане, или лакомые кусочки от свадебных пиршеств и воровских набегов на сад.
Чаще всего покушались на его добычу те, кто не знал его силу и норов, надеясь на легкий успех, но получали такой отпор, что потом их гонора хватало только на то, чтобы издали угрожать и обзывать несуразными словами, которые отскакивали от Ваниного добродушия, как горох от стены. Пацанва помоложе тянулась к нему по законам дружбы с младшим братом, чувствуя силу и благородство, не способные обидеть слабого. Сверстников привлекала не столько сила его, сколько изворотливость ума по части обнаружения вожделенной жратвы.
Однако, в один прекрасный день эта необходимость повседневно заботиться о хлебе насущном отступила на задний план: нашелся отец. Правда, лишь для того, чтобы забрать сыновей в другую семью. Ребята от этого нисколько не огорчились. Главное — батяня с ними, а остальное — трын-трава. Досадную ущербность перед другими мальчишками, хвастающими своими отцами, как рукой сняло.
По совету отца Ваня записался в школу фабрично-заводского обучения под другой фамилией.
Дело в том, что Ваня до десяти лет вообще нигде не учился. Не до учебы было без отца в голодные годы после Гражданской смуты. Если не считать кузницу по соседству с домом, где мастерил всякие привлекательные штуковины дед Федор, на плечах которого держалась и многодетная семья Артема Бабенко. Самая старшая дочь Аня была под стать Ивану: симпатичная, добрая, не гнушающаяся никакой черновой работы и готовая кинуться в огонь и воду по знаку своего кумира, в которого тайно была влюблена с детских лет.
После того как отгремела братоубийственная война, два закадычных друга, ушедшие в Армию Буденного: Артем и Евграф вернулись в Луганск. Евграф не стал объявляться, как Бабенко, скрытно ушел к другой женщине, решив не связываться больше со своей больно сварливой супругой. Но она разыскала его, пытаясь вернуть в лоно семьи загулявшего мужа. Не вышло. В итоге бывшие супруги мирно «поделили» сообща нажитых четверых детей поровну. Старших сыновей — Ивана и Семена — Евграф забрал к себе, а девочки остались при матери.
К моменту развода как раз и случилась беда, которая чуть было не повернула судьбу подростка в другую сторону. Иван, выросший, по существу без отца сформировался в маленького предводителя дворовой шайки и возомнил себя народным мстителем. Крепко обидевшись на богатея, у которого батрачил по просьбе матери с малых лет, чтобы как-то прокормиться, поджег конюшню, где ему не раз доставалось на орехи за промахи по уходу за животными. Привычную трепку, тем более — за дело, можно было стерпеть, как терпел до этого. Но самолюбие окрепшего атамана таких же обездоленных войной подростков на этот раз дало осечку. Выросшее чувство достоинства оказалось слишком грубо задето выпадом в адрес, в общем-то, благодушного парнишки.
— Неуч! Скотина! Ты не получить своего недельного пайка до тех пор, пока не научишься ломить шапку передо мной за милостыню, которую ты не заработал. — Плеть хозяина, стегнувшая по плечам, не так вздыбила мальчугана, как эти унизительные слова при сверстниках, пришедших к нему «на работу».
Поздно вечером он пробрался в примыкавший к дому сарай скорняка, благо собаки его признали и не тронули. Сарай, набитый сеном, шкурами и всякой рухлядью, загорелся не сразу, и поджигателю удалось ускользнуть с места преступления незаметно. Но хозяин вычислил злоумышленника, так как Ваня не явился на «работу» на следующий день, и затеял против него судебное дело. Слух об этом «красном петухе» дошел до Евграфа. Чтобы скрыть следы классового преступления, когда еще по инерции действовало правосудие кошелька, отец забрал сына от матери и записал на фамилию в честь деда Федора. Так эта фамилия и закрепилась за Иваном. Особенно после того, как его пристроили на паровозостроительный завод подручным к другу отца, слесарю Федорову. Так впервые он был засекречен своим отцом.
Жизнь кое-как наладилась. Он стал учиться, меньше уделять времени улице, где уже, ради бравады, начал покуривать. Изменились и причины рукопашных схваток. Отпала звериная страсть защищать собственность. Зато обострилась нужда отстаивать свое возрастающее день ото дня мужское достоинство.
Стычки между товарищами нередко теперь кончались перемирием и приводили к совершенно другим последствиям, чем это было раньше, без отца. Как-то Вовка, по кличке «Бобёр», в пылу общефилософского спора — что важнее: ум или сила, обозвал Ваню безобидным словом «дурак». Оскорбленное самолюбие парнишки спонтанно отозвалось ударом в глаз оскорбителю. Что послужило причиной такой несдержанности — одному Богу известно. Возможно, стоявшая неподалеку одноклассница Аня.
Бобёр устоял на ногах и тут же молниеносно нанес ответный удар точно по носу. Ваня опешил: «Как же так? Один оскорбил, другой ответил. Значит — квиты. И вдруг — тукманка по самому выдающемуся месту. Нечестно. Получай сдачу!»
Бобёр взвился:
— А-а! Драться? На, на! — с остервенением набросился крепыш на все еще недоумевающего противника.
У Вани не было желания драться с младшим по возрасту, но старшим по классу. Просто загорелось прищемить язык умнику, и потому долго и обалдело искал способ, как достойно выйти из дурацкой ситуации, пока не оказался с расквашенным носом и в изодранной рубашке.
Кровь освежила мозги, подхлестнула мускулы. Толчок и подножка решили проблему: Бобёр живописно растянулся на земле. Какой бы жестокой ни была схватка, бить лежачего в те времена не позволяла гордость.
Лежа на земле, философ с соседней улицы продолжал оспаривать преимущество силы перед разумом под новым углом зрения:
— Гад! Шалопай! Тямы нет — рукам волю не давай! — И… уже сидя, менее озлобленно: — Дураков учат линейкой по голове, а ты — в глаз. Иванушка-дурачина — бестолковая дубина. Смотри! Дураком был — дураком и…
«Иванушка-дурачок» отвернулся: «Пускай себе выступает».
Странно. Теперь обидные слова его не задевали. Чувство победителя успокаивало, возвращало благодушие и трезвость рассудка. Поэтому он и сказал дружелюбно:
— Хватит. Закругляйся. Или еще хочешь? — И услышал от поверженного соперника совсем уж неожиданно-ершистое:
— А ты хочешь?
И как это он отпарировал, вопросом на вопрос, уверенно и вызывающе, ошеломило победителя.
Драться Иван не хотел. Но сказать об этом не мог. Другие подумают, что струсил. И потому брякнул, что случайно пришло на ум: