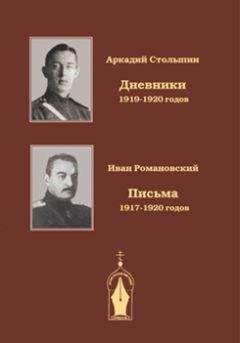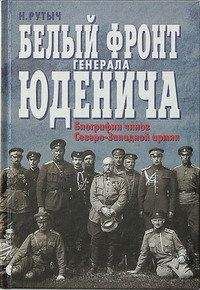Солдаты снова начали переругиваться друг с другом, но уже без прежней ярости. Горяинов уныло перебирал в сотый раз свой аккуратно сложенный сундучок, все еще надеясь, что деньги куда-нибудь завалились.
Деньги нашли через два дня арабские солдаты, чистившие казарменную уборную: они были запрятаны под крышей, между деревянными стропилами. Деньги лежали в бумажнике Пискарева.
…Накануне нашего отъезда в Марсель мы сидели вместе с Мятлевым в маленьком подслеповатом кафе. За стойкой на высоком стуле возвышалась неподвижная, как размалеванный Будда, усатая хозяйка. Перед нами на исцарапанном мраморе столика одиноко торчал «разжалованный поручик» — пустая мартелевская бутылка коньяка «три звездочки». Мы оба были пьяны и только что перешли на «ты». Перед глазами медленно плыла, покачиваясь, пустая комната, двоилось, то расплываясь, то делаясь невероятно отчетливым, как будто я смотрел на него в лупу, скуластое лицо Мятлева. Преодолевая мучительную икоту, неудержимо разрывавшую мне грудь, я спросил Федю:
— Вот ты из семинарии хотел поступить в Юрьевский университет, а солдаты тебя все же считают за своего.
Федя улыбнулся, — у него была чудесная улыбка: вспыхивало все лицо, жмурились голубые глаза, и морщинки звездами разбегались по впалым щекам.
— Что ж ты хочешь, — я семинарист, Хома Брут двадцатого века. В университет я не попал из-за гражданской войны — все пошло прахом. Солдаты меня любят, потому что я по-прежнему «свой», я никогда от них не уходил. Видишь, — он провел рукою по своим гладким зеленым погонам, — я обошелся без вольноперского канта. Тебе поначалу трудно, я знаю, но подожди, все обойдется.
Мне казалось, что его голос доносится издалека, опьянение давало себя чувствовать все сильнее.
— Я никогда от них не уходил, — повторил Мятлев. — Я не мог уйти, да и не хотел. Ведь дьякон в деревне — это почти что мужик. А семинария…
Федя замолчал. Крупные капли пота блестели на его лице. Вероятно, они щекотали его, потому что он долго тер свой несоразмерно высокий лоб тыльной частью руки. Когда он опустил руку, я увидел, что его лицо вдруг стало маленьким и жалким. Федины голубые глаза потускнели и глубоко ушли под насупленные брови.
— Скучно мне, — протянул он расплывшимся, пьяным голосом. — Мне двадцать три года, и вчера я в первый раз узнал женщину (он сказал иначе, грубо, но грубости в его словах не было). Да, в первый раз. Вот теперь — скучно. Ты не удивляйся, что я до сих пор был девственником, — так уж вышло. Мне было шестнадцать лет, когда меня семинаристы затащили к девкам. Я был еще слишком молод. Убогость и грязь убили меня, — голые, оштукатуренные стены с клопиными следами, жирный и вязкий стол, самогон в зеленой бутылке — все было до того отвратительно, что я притворился пьяным и не пошел с ними. А они ушли за ширму, между делом продолжали звать меня. Потом появилась девка, кутавшаяся в линялый платок, из-под которого торчали ее толстые ноги с грязными пятками. На ляжке у нее чернел синяк, огромный, с целое блюдечко. Она шлепала бесформенными, растоптанными туфлями и уныло ругалась. Меня начало тошнить, и я убежал во двор. С тех пор я боялся об этом думать… и думал, конечно, постоянно. А вчера… А вчера было то, чего я, вероятно, ждал: электрический свет, пиво, зеркала. До черта этих самых зеркал. И в зеркалах всё твоя морда — и спереди, и сзади, и сбоку. И она тоже. Такая ласковая попалась. Только знаешь — с электрическими лампочками, зеркалами да ласковостью еще хуже… Отвратительнее, чем тогда, в России, с самогоном…
Вдруг Федя начал плевать мелкими сухими плевками, как будто в рот ему попал табак.
— Ты что это?
— Мне все кажется, что вокруг зараза. Эх, стоило беречь себя до двадцати трех лет…
Расплатившись с хозяйкой, — все качалось вокруг, только она одна, как скала средь бушующего моря, возвышалась неподвижной громадой, — мы вышли на улицу. Шел дождь, мелкий и надоедливый. Вдалеке поблескивал одинокий фонарь. Я помню, как под этим фонарем мы долго разговаривали друг с другом, как я пытался утешить Федю и как он, так и не утешившись, ушел от меня, угрюмо отплевываясь сухими плевками.
3
В Марсель мы приехали в первых числах ноября. Нас разместили на северной окраине города, в лагере Конвингтон. На черной от угольной пыли, кое-как утрамбованной земле были разбросаны многочисленные казармы: длинные, одноэтажные бараки с маленькими четырехугольными окнами, а то и совсем без окон низкие невидимой тяжестью придавленные к земле. Нам отвели барак на самом краю лагеря, около проволочной изгороди. Между покривившимися черными столбами, на которых извивались во все стороны, как щупальца осьминога оборванные концы колючей проволоки, проходила неизвестно где начинавшаяся немощеная дорога. Еще дальше там, где виднелись первые дома Марселя, поднималась высокая, глухая стена, из-за которой торчали вершины трех серых пальм, смахивавших на обтрепанные веники. С другой стороны лагеря поднималась гора, исчерченная заборчиками и грядками огородов, а вдалеке, из ее недр, из черного жерла туннеля, вырывались поезда, пронзительным свистом приветствовавшие возвращение дневного света. Наш барак, сложенный из наспех привинченных друг к другу железных гофрированных листов, был похож на огромную, проржавевшую от времени консервную банку. Внутри, на земляном полу, были поставлены двухэтажные американские нары. Они образовывали длинный, как кишка, коридор, расширявшийся посередине, где стояла узкая, похожая на столб, железная печка, дымившая даже в тех случаях, когда ее не топили. Окон не было — свет проникал сквозь щели в крыше, и в бараке царил даже в солнечный полдень глухой полумрак, в котором деревянные брусья нар становились похожими на скелеты доисторических чудовищ. По вечерам около печки зажигалась одна-единственная керосиновая лампочка с закоптелым стеклом. Издали она напоминала огонь маяка, затерявшийся в глубоком мраке.
Я с трудом втискивался в условия казарменной жизни, — если бы не моя дружба с Мятлевым, я, быть может, так и остался бы за бортом: солдаты всячески остерегались признать своим чужака-«билигента», который под пьяную руку обругал Горяинова «интегральным исчислением». Это «интегральное исчисление» мне долго не могли простить — ругательство было непонятно, а потому особенно обидно, обиднее всех небоскребов с перечислением предков до седьмого колена и попутным упоминанием святых и мучеников. Неожиданно в моем трудном сближении с солдатами мне помогла моя способность подбирать рифмованные прибаутки.
Техника прибаутки проста — в первой строке конкретная подробность, характеризующая собеседника: