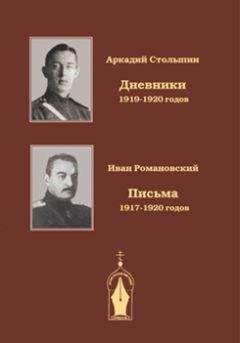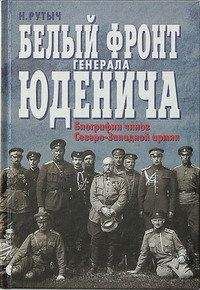Нас выстроили перед бараком, в котором мы жили. День был солнечный, но резкий ледяной ветер дул с моря. Ветер начисто вымел холодное голубое небо, расчистил громадный двор лагеря, вдалеке, за колючей проволочной изгородью, там, где росли облезлые пальмы, поднял облако черной угольной пыли.
Капитан Ратуша подошел к нам в сопровождении французского сержанта, служившего в лагере переводчиком. Капитан мрачно, ни на кого не глядя, стесняясь своей слишком новой офицерской формы, обошел ряды и, остановившись около правого фланга, начал речь:
— Ребята! Лихолетье, постигшее нашу родину… того… не кончилось.
Капитан Ратуша запнулся — голос прозвучал слишком визгливо. Он продолжал, комкая заранее приготовленные фразы:
— Не надо падать духом. Генерал Врангель побежден. Временно он должен был покинуть Крым, но борьба, борьба за нашу дорогую родину еще не кончилась. Ребята…
Ему, вероятно, хотелось сказать «орлы», но как-то не вышло.
Ребята, мы сейчас живем в гостеприимной Франции, дающей нам пищу и кров. Будем же помнить…
Тут капитан Ратуша окончательно запутался и никак не мог вспомнить того, что должны были помнить мы все. Кончил он свою речь скороговоркой:
— Следите за собой, не распоясывайтесь. Будьте достойны славного имени русского солдата.
Кончив свою речь, капитан Ратуша еще раз обошел ряды, поправил Солодову недостаточно затянутый пояс, взял из рук французского сержанта приказ, прокашлялся и крикнул:
— Старший унтер-офицер Пискарев Петр, присвоивший деньги и вещи, принадлежавшие ефрейтору Горяинову… приказом генерала Миллера за номером 3526… к разжалованию в рядовые…
Кончив чтение, капитан свернул приказ в трубочку сунул в карман шинели и медленно, неловкими движениями начал срывать заранее подпоротые унтер-офицерские лычки с погон Пискарева. Одна из лычек не поддавалась его неловким пальцам, и было слышно, как он вполголоса выругался:
— Сволочи, даже подпороть не умеют!..
Налетел резкий порыв ветра. Он нес сорванный с забора обрывок афиши. Пестрый кусок бумаги летел низко над землею, падал плашмя, как будто прилипал к черному, угольному двору, потом, оторвавшись, с трудом летел дальше, бестолково кувыркаясь в воздухе. Французский сержант вынул из кармана засморканный носовой платок, произвел странную, чрезвычайно сложную манипуляцию со своим носом и, нагнувшись к уху капитана Ратуши, зашептал что-то, шепелявя и присюсюкивая. Капитан Ратуша долго слушал, видимо стараясь понять, в чем дело, и потом, закивав головой, начал говорить напутственное слово. Впрочем, напутственное слово у него тоже не вышло, — было понятно только, что впредь до новых распоряжений мы будем жить в Конвингтонском лагере, приравненные правами и обязанностями к французским солдатам.
Так кончилось разжалование унтер-офицера Пискарева. Дисциплины разжалование не подняло: в тот же вечер наша казарма напилась, вся, целиком, трезвыми остались на двести человек — я, и то потому, что не мог научиться пить, да, уже совсем неожиданно, Санников. Лежа на койке, он смотрел широко раскрытыми глазами на огарок свечи, качавшийся в жестяной плошке, подвешенной к потолку, и говорил мне:
— Не могу я жить во Франции. Мне не по плечу. Что делать, когда даже по умеешь плакать по-французски?
Он повернулся на бок, нелепо расставляя ноги. Его осунувшееся цыганское лицо вдруг сделалось маленьким и скучным. Черной паутиной разбежались морщины вокруг глаз и рта.
— Ты что, Санников, тоже?
— Тоже. Мне не повезло. Горяинов ходил с этой девкой — и хоть бы что, остался здоров. Не могу я больше оставаться в Марселе. Пью, пью, почти каждый вечер пьян, а легкости нет.
Оборвав себя, он быстро окликнул проходившего мимо, чрезвычайно четко отстукивавшего каждый шаг, вдребезги пьяного фон Шатта:
— Эй, Шаттов, у тебя рубашка в полоску, дай-ка папироску!
Фон Шатт остановился, точными, но странными, как будто не связанными друг с другом, угловатыми движениями достал серебряный портсигар с золотой монограммой, долго не мог открыть его и, наконец открыв, вытащил две папиросы и застыл, не зная, что делать с ними.
Санников взял обе папиросы, вытащил еще две из портсигара и, откинувшись, сказал фон Шатту, — впрочем, без всякой злости:
— Ну, теперь проваливай, билигент.
Фон Шатт проследовал дальше, все так же четко отстукивая шаг. Из глубины барака донеслось густое, как будто воздух был тяжелее воды, пьяное пенье. Запевал Федя, но вскоре его нежный голос потонул в пьяном гаме и реве:
Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,
Колодников тяжкие цепи
Метут придорожную пыль…
Санников повернулся ко мне и, глубоко затягиваясь, до самой души, шаттовской папиросой, сказал спокойным и пустым голосом:
— Вот только поправлюсь, сию же минуту запишусь в Иностранный легион.
— Да что ты, Ваня… — Я попробовал было уговорить его, но Санников не слушал.
Я еще продолжал уговаривать, когда к нам подошел чуть сгорбленный, как будто голова была вдавлена в плечи, холодный и нелюдимый поручик Иван Юрьевич Артамонов.
— Андреев, выйдемте на улицу. Все равно здесь нельзя оставаться, — Артамонов кивнул головой в глубину барака, откуда двигалась к нам пьяная группа солдат. Впереди шел Плотников, в руках у него была старая дырявая гармошка, вздыхавшая дико и нелепо. Он не пел, а кричал во все горло:
Пароходик идет
Близко к пристани.
Будем рыбку кормить
Коммунистами.
Когда мы выходили, нам вслед донеслось:
Пароходик идет,
Волны валами.
Будем рыбку кормить
Генералами.
Последние слова потонули в пьяном визге и хохоте.
Когда нас из Оранжа привезли в Марсель и разместили в лагере Конвингтон, то в одном из железных бараков, отведенных для нашей группы, мы встретили Артамонова.
Жил он здесь уже несколько недель, один, обедая вместе с французскими солдатами в соседней казарме. Попал он в Конвингтонский лагерь в результате темной и никому не понятной истории. Называл он себя деникинских офицером, рассказывал, что был комендантом в Геленджике, разуверившись в белом движении, бежал и в трюме греческого парохода добрался до Салоник, полгода прожил, нищенствуя, в Греции, потом, опять в трюме парохода, скрываясь, добрался до Марселя. Здесь он работал грузчиком в порту, пока каким-то образом не устроился в Конвингтонский лагерь, где получал солдатский паек — на офицерское иждивение его не захотели зачислить. После нашего приезда Артамонов держался особняком, почти никогда не вмешивался в общие разговоры и, казалось, ни с кем не завязывал знакомства. Наши солдаты относились к нему с уважением, без спора признавая за ним офицерское звание, в котором ему отказывали русские военные власти в Марселе.