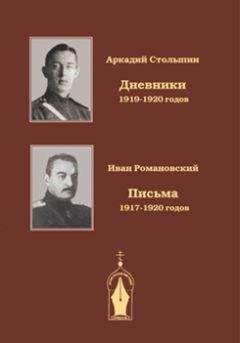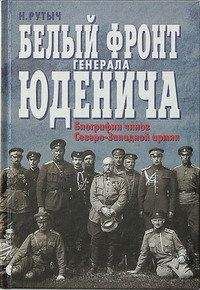Техника прибаутки проста — в первой строке конкретная подробность, характеризующая собеседника:
Ты, Петрушка, волосатый,
во второй — неожиданная просьба:
Дай-ка франк, коли богатый.
Иногда прибаутка просто превращалась в рифмованную закорючку — афоризм. Особенным специалистом по изобретению неожиданных афоризмов был Вялов. Две строчки, пущенные им в обиход, пользовались особенным успехом:
Ночью, днем ли, все одно —
Пить да пить бы нам вино.
По вечерам, когда безденежье, безделье и тоска загоняли нас на нары, а спать еще не хотелось, начиналось состязанье прибауточников. В темноте поблескивали розовые огоньки папирос, ветер громыхал железной крышей, угрюмо и мерно шлепали капли дождя, образуя лужицы посередине коридора, глухо и упрямо ворчал Горяинов, которому мешали спать. Начинал состязание по обыкновению Вялов:
Что-то, братцы, заскучали мы,
Грешной жизнью измочалены.
Раздавался взрыв хохота, и в темноте голос Санникова, прекрасный и нежный, даже когда он не пел, весело подхватывал:
Не кручинься, не сердись,—
Перебудем нашу жисть.
Я вскоре привык к состязаниям и не уступал даже Вялову в изобретательности. Однажды, когда я загнул, неожиданно даже для самого себя, особенно заковыристую прибаутку, не помню какую, да все равно и привести ее нельзя было бы — почти все прибаутки нецензурны, — с верхних нар раздался глухой басок Кочкина, солдата чрезвычайно мрачного и горького пьяницы:
Ты, Андреев, прибауточник,
Бил тебя Ванька-будочник.
Я почувствовал, что лед сломан и что меня начинают принимать за своего. Правда, еще долгое время в разговоре нет-нет да и проскользнет настороженное отношение, — мой собеседник замолкал, боясь сказать лишнее, слишком явно открыться передо мной, но уже и Вялов, и Санников, и даже Плотников, с которым я подружился уже в Марселе, меня перестали чуждаться.
Плотников приехал с последней партией, уже прямо в Марсель. Он вошел первый в барак, спокойно и уверенно, как к себе домой. Скинув непромокаемое пальто, с которого струилась вода, он подошел к тусклой керосиновой лампе и, в темноте никого, вероятно, не разглядев, сказал низким, удивительно приятным голосом:
— Скверно вы, братцы, живете. Ну что нее, идите сюда, к свету, будем здороваться.
Его сразу окружили призрачные, слившиеся с мраком тени солдат. Он на голову возвышался над всеми — крупный, спокойный, уверенный в себе. Крупны и широки были движения его больших, очень белых рук, по круглому, чуть веснушчатому лицу стекали капли дождя, в его глазах отражалось пламя лампы, казалось, что он один ясен и реален в толпе плоских призраков.
— Солодов, а Солодов где? — снова раздался широкий и теплый голос Плотникова.
На мгновенье из мрака вынырнуло бабье лицо Солодова, озаренное блаженной улыбкой.
— Соскучился? Видишь, говорил, что догоним, вот и догнали. Соскучился, — повторил Плотников тише и ласковей. — Ну, глупый, зачем нюни распустил, не стоит.
Он обнял Солодова и вместе с ним исчез в темноте. Оттуда еще долго гудел его голос, успокаивающий, немного насмешливый.
— Замечательный человек наш Плотников, — сказал мне Мятлев, присаживаясь на край койки. — Он из старообрядцев, правда, сам уже отошел от отцовской веры — и курит, и пьет, — но осталась в нем какая-то странная сила: кого ни возьми у нас в казарме, его все слушаются, даже Вялов.
— Что это, он дружит с Солодовым?
— Плотников больше всего любит животных да юродивых. И знаешь, в нем есть такой внутренний, неписаный закон. Хорошо, если этот закон совпадает с нашими, человеческими законами, — а если нет, тем хуже для человеческих законов.
Я почувствовал, что Мятлев в темноте улыбается широко и весело.
— Однажды в Финляндии, в лагере, где мы сидели, — продолжал он, — Плотников чуть не убил человека. Был у нас такой финн, стражник, и вздумал он подшутить над Солодовым — поджег ему шинель. Вероятно, был пьян. Когда Плотников увидел это, он взял финна и попросту выкинул его в окно со второго этажа. Тот даже крикнуть не успел, так и взвился ласточкой, держа винтовку в правой руке. Было расследование, но Плотникова не тронули — за него встали все горой. Финны поняли, что лучше не связываться.
Федя замолчал, закуривая. На мгновенье спичка озарила его большой, нелепо-красивый лоб. Потом, усевшись поудобнее на нарах, он замурлыкал без слов «Было двенаддцать разбойников…».
— Плотников, — Федя продолжал как будто уже давно начатую фразу, — святой разбойник. Он убьет и не пожалеет, потому что будет уверен, что убил за дело.
Я лежал на спине, вслушиваясь в слова Мятлева и не вполне осознавая их. Внезапно в глубине, еще неясно, я почувствовал, что нечто новое должно случиться со мной. Все исчезло: шум дождя, гулко стучавшего по железной крыше, ропот голосов, мурлыканье Феди Мятлева, сидевшего у меня в ногах, все спуталось, исчезло, наступила полная тишина.
Через несколько дней после нашего переезда из Оранжа в Марсель мы получили первое известие о перекопском поражении Врангеля. Принес его в лагерь Вялов. В одной из очередных драк встретился он с русским солдатом экспедиционного корпуса, ожидавшего в Марселе отправки в Советскую Россию. Вялов поражению Врангеля верить не хотел, но сразу же, в первую же минуту, поверил. Вся казарма, поначалу поднявшая Вялова на смех, через час уже твердо знала, что Перекоп взят и что в Крым мы больше не попадем. Официальное подтверждение мы получили не скоро, недели через две-три. В течение этого времени наша казарма жила нелепой и бестолковой жизнью. Пропивались последние деньги, заветные вещи: нательные кресты, штатские костюмы, бритвы, белье, приходила очередь казенных одеял. Начались заболевания венерическими болезнями. Появились вши.
Ко дню объявления нам о поражении Врангеля и о том, что белая армия расквартирована в Галлиполи, было приурочено, — вероятно, для поддержания дисциплины, — разжалование старшего унтер-офицера Пискарева: после того, как были найдены деньги, Пискарев больше не запирался и подробно рассказал о том, как он украл у Горяинова триста пятнадцать франков, нательный крест и три серебряных рубля.
Нас выстроили перед бараком, в котором мы жили. День был солнечный, но резкий ледяной ветер дул с моря. Ветер начисто вымел холодное голубое небо, расчистил громадный двор лагеря, вдалеке, за колючей проволочной изгородью, там, где росли облезлые пальмы, поднял облако черной угольной пыли.