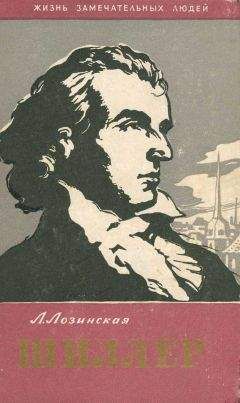Итак, из приведенных выше, возможно парадоксальных рассуждений я делаю вывод, что поэтесса, творческий портрет которой я набросал, поняла и исполнила завет умирающего Словацкого, чтобы «живые не теряли надежды». Она обещает нам рассвет, будущее, она заклинает нас жить и запрещает спать, обнажает наши раны и велит любить, врачевать их. Ослушаться ее не имеют права те, кто стоит в авангарде народа, к кому она обращается, говоря:
В трудном марше
Пусть впереди будут юноши наши.[71]
24 февраля 1887 г. Прекрасно ты, щемящее грудь, влечение к добру, самопожертвованию, добродетели! Сладостны чистые слезы, пролитые из чувства братства. Как возвышенна должна быть радость посвящения во имя тихого сна матери, светлых дум отца, во имя спокойствия чтимых тобою старцев. Счастливый тот день, когда ты видишь, что твои мечты, твою веру понимает самое близкое на земле, единственно родное сердце матери. Такая вокруг безмерная даль! – и как ни напрягай зрение, сколько ни окидывай взором просторы земли, не найдешь никого, кто бы подумал о тебе: что с ним сейчас?
Я страшно одинок! Иду, иду и не думаю, куда я иду и зачем… Только иногда, когда на сцене или в жизни услышишь всепоглощающие материнские слова, увидишь горящий любовью взгляд, и спросит тебя твой враг – ты его сразу узнаешь, он – насмешник и меланхолик: «А есть ли у тебя на свете кто-нибудь близкий?»
Но вот он исчез, мой злой сатана, двуликий божок, имя которому пессимизм… и снова день за днем течет жизнь, бессмысленная… или заполненная… любовью к родной земле.
В этой земле лежит и моя мать. Как ты богата, родная земля. Забыть тебя – значило бы забыть о своей матери. По-крестьянски люблю родину.
1 марта 1887 г. Сейчас мне кажется, что у человека инстинктов хороших больше, чем плохих. Когда смотришь пьесу, где речь идет о борьбе добра и зла, от всей души желаешь, чтобы восторжествовало добро. Разве это не доказательство? Я не отрицаю, что, если бы эту нашу склонность к добру пропустить как луч света через призму, выявились бы такие составные части этого чувства, которые сбили бы нас с толку. Мы увидели бы эгоизм – наш эгоизм, и много других печальных вещей. Но как бы то ни было, от природы в людях заложены хорошие инстинкты. Добро является первоосновой человеческой натуры. Я верю в это – и люблю людей. На земле много зла, но я не хочу верить и никогда не поверю в его торжество. Я не идеалист – я знаю о существовании страшных язв и не раз видел их так близко, что меня отравлял запах гнили и пугал отвратительный их цвет. Немало вплелось моих бусинок-слез в четки ежедневных молитв.
Но я не верю в торжество зла. Блаженна минута, когда можешь написать такие слова.
7 марта 1887 г. Вчера я почти всю ночь читал первый том «Преступления и наказания» Достоевского. Ни Золя, ни Бурже, ни даже Прус не могут похвалиться таким знанием человеческой психологии. Рассуждения Раскольникова после совершения им преступления написаны с такой впечатляющей силой, что, потушив лампу, я в испуге бросился на кровать, чувствуя, что дальше читать просто невозможно – ты форменным образом проникаешься его мыслями, тебе кажется, что ты сам становишься маньяком. Никакая другая книга, за исключением, пожалуй, «Форпоста»[72] не хватала меня так за сердце. Эта психология выходи! за пределы обычных чувств; я сомневаюсь, чтобы Достоевский сам пережил такого рода кризис. И в то же время каждая мысль отображена там настолько правдиво, что невозможно предположить, что все» это вымысел. Безусловно, это гениальная интуиция, невероятное искусство отгадывания мыслей. Созданные им картины потрясают, гнетут, подчас его невозможно читать. Восторгаешься Разумихиным и Таней, единственными положительными персонажами, цепляешься за них с радостью потому, что тебе становится и страшно и больно. Это не люди, а паршивые собаки, выброшенные на свалку. Такая Соня – проститутка, которая содержит пьяницу отца… ужас! Я проснулся сегодня утром с головной болью, чувствуя невыразимую радость оттого, что никого не убил.
Деньги я получил. Друзья они плохие: начинаю обращать внимание на женщин. Но у меня нет грязных мыслей: я люблю наблюдать издали за молоденькими девушками, люблю смотреть, как светится на солнце выхваченная ветром непокорная прядь волос, видеть маленькое личико и крохотные ножки, ступающие по тротуару: стук, стук!
16 марта 1887 г. Сегодня я был в костеле Св. Креста. Там кого-то отпевали, звучал орган, в грустных псалмах слышался плач и несказанная, безграничная печаль, проливающая бальзам на душу. Я смотрел на памятник Шопену и высеченную на нем надпись: «Где твое сокровище – там и сердце твое».[73]
Нельзя было бы посвятить этому гению лучших слов. Сокровищем была для него родная земля – сокровищем, воспетым в его безмерно печальных, полных слез и веселья песнях, в мелодиях, терзающих сердце, слезами жгущих глаза.
Шопен – для нас такое же святое имя, как Костюшко, как Мицкевич. Поднимаешь глаза, и они наполняются слезами при слове: Шопен!
16 мая 1887 г. Вчера целый день ничего не ел. Я вышел из дому утром, мне нужно было во что бы то ни стало раздобыть немного денег. Кто поймет, каково ходить от дверей одного товарища к другому, чтобы занять деньги? Кто поймет ужасное чувство отвращения к себе, когда ты высказываешь свою просьбу? Я был у Рогальского, Бельницкого, Зидлера и никому не сказал ни слова. Это попрошайничество – позор! Прошло уже три дня, с тех пор как в субботу я съел последний кусок хлеба. Есть мне не хочется, но я знаю, что я должен что-нибудь съесть, – я слабею, и у меня подкашиваются ноги. Вернувшись домой и застав Соплицу, преспокойно вытянувшегося на кровати, я затеял с ним страшную ссору. Мы ругались, оскорбляли друг друга, это должно было заменить драку. Так могут ссориться только голодные. Так ссорятся уличные женщины.
Выйдя потом в город, я встретил Карвасинского, который пригласил меня к себе на вечер. Его литературные планы, по-моему, смешны…
6 июня 1887 г. Сегодня я уснул как обычно – на восходе солнца. То был лихорадочный страшный сон. Мне приснилось, будто ночью ко мне пришел агент тайной полиции, забрал мои дневники, читал записки; я видел, как он выписывает фамилии моих товарищей – участников собраний, а я лежал на кровати со связанными руками, силясь разорвать веревки. Наконец, увидев, что «ищейки» читают письма Елены, я проснулся с криком.
Проснувшись, я несколько минут лежал без движения, чувствуя страшную усталость.
Как знать? Если бы меня взяли одного, если бы никто больше не пострадал, может, это было бы даже к лучшему… Просыпаться ежедневно, чтобы влачить эту жалкую жизнь, погружаться в водоворот бессмысленных дум… А вообще стоит ли каждое утро возвращаться к чудовищно опротивевшим мыслям, к страданиям, которые я должен переносить и над которыми в душе смеюсь?