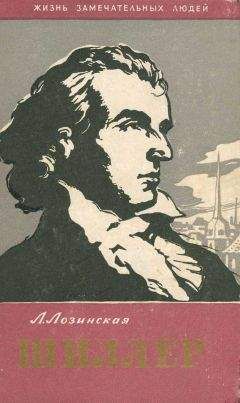Проснувшись, я несколько минут лежал без движения, чувствуя страшную усталость.
Как знать? Если бы меня взяли одного, если бы никто больше не пострадал, может, это было бы даже к лучшему… Просыпаться ежедневно, чтобы влачить эту жалкую жизнь, погружаться в водоворот бессмысленных дум… А вообще стоит ли каждое утро возвращаться к чудовищно опротивевшим мыслям, к страданиям, которые я должен переносить и над которыми в душе смеюсь?
13 июня 1887 г. Елене я не ответил, а вернее, не отправил написанного письма. И не напишу ей никогда. Она добра, очень добра. Даже если в ее последнем письме не было ни слова правды, уже за одно то, что она отозвалась в эти дни, она заслужила мою глубокую благодарность. Что же я ей отвечу? Что может написать любимой женщине человек голодный, сломленный жизнью и невыносимо, страшно униженный? Что может написать человек, у которого голова раскалывается от отчаянных мыслей, воспаленный мозг ищет путей спасения, выхода из этого ужасного болота? Просыпаешься утром и остаешься один на один с нищетой. Что делать, что делать? Работы, работы! Кто же ее даст, с кем о ней говорить, к кому обратиться? Все рушится, трещит, как лед под утопающим. И я чувствую, что опускаюсь на страшное дно жизни. Что делать?
15 июня 1887 г. Читали с Ясем «Форпост» Пруса. Самого Пруса встречаем по нескольку раз в день на улице. Такой нескладный, похожий на Гоголя, в сером сюртуке, с двумя парами очков – и пишет такие чудесные вещи! «Форпост» я читал уже в третий раз!
19 июня 1887 г. (Рассвет.) В «Collegium novum» выдавали дипломы докторов философии.[74] Ими были удостоены несколько ученых. «Почему диплом не дали… Прусу?» – спросил я вчера Васильковского.
– Потому, что он подлец, свинья!
– Прус?!
– Да. Не хотел подписать адрес Ежу,[75] не хотел войти в жюри конкурса, объявленного пулавскими студентами.[76] А его апрельские хроники?[77] И написал-то всего несколько шутовских анекдотов, несколько сентиментальных рассказов – и за это его почтить дипломом?
Вот так обычно соотечественники оценивают своих пророков, своих великих людей. Недавно Новинский убеждал меня, что Крашевский не заслужил, чтобы его поминали добром, даже имя его следует заклеймить позором, подумайте, «этот великий Крашевский»… имел содержанку – немку!
Вот так судят у нас о колоссах, титанах, вождях народа!
По-моему, за Ежем идет у нас Прус. Первый – самый выдающийся поляк, второй – самый выдающийся художник. Сенкевич и Ожешко стоят особняком.
Прус – это художник, философ, поэт; он патриот и гражданин, экономист, журналист. В какой-то мере он соединяет в себе черты Диккенса, Додэ, Достоевского. Наконец Прус – единственный у нас психолог народа.
Если бы меня спросили, кого я чту из своих соотечественников, я ответил бы – Ежа. Если бы меня спросили, кого я люблю, я бы ответил, что люблю Пруса.
Это замечательный человек.
Он так добр, что в его произведениях не найдешь плохих людей, так добр, что никогда не сторонится горя. Я не слышал в его гениальном смехе презрения. Если вслушаться в его смех, в нем звучат слезы. Слезы – вот его улыбка.
Раскрывая психологическую драму маленьких людей, Прус проявляет гениальную интуицию и необыкновенную силу художественного воплощения.
Его произведения – это поэмы, трогательные, как музыка Шопена, и одновременно они подобны открытиям, совершаемым при помощи микроскопа. Он показывает в свой микроскоп жизнь таких сперматозоидов… Но откуда ему ведомы их страдания? Где он черпает силу, которая нас возбуждает, сердит, бесит, наконец приводит в ярость? Только поднимешь глаза, полные слез, и на следующей же странице видишь его грустную улыбку… Объяснения он не дает.
Прус – поэт, и этим все сказано. Это великое сердце, возлюбившее всех униженных, презираемых, сирых Прус – это сердце народа. Его произведения нельзя постичь разумом, ибо он поэт. Иногда читатель смеется от души там, где льются слезы.
11 ноября 1887 г. Когда голодный и ослабевший, в пальтишке с чужого плеча, тесном как смирительная рубашка, в дырявых ботинках, чей вид взывает к небесам о мести, с пылающей головой – я поворачиваю с Краковского предместья на Каровую улицу и стою у самого ее начала, и ветер, снег и дождь воют не в полсилы, а во всю свою дьявольскую мощь, когда холод пронизывает меня до мозга костей, – я падаю духом и начинаю чувствовать всю низость, подлость, бесполезность, ненужность своего существования, всю свою посредственность. Тогда слезы катятся по моим щекам черт знает почему, и я отдал бы полжизни, лишь бы эти мысли исчезли. Я так одинок, что бесценным богатством кажется мне мечта о том, будто у меня есть мать, которая мне не может помочь, не может меня спасти, и только пишет мне раз в год: «Сын мой, будь стойким, трудись, никогда не смиряйся духом. Помни, что я еще жива».
Но у меня нет никого, кроме того беспредельного, что зовется родиной. Эта мать завладевает всем сердцем, а взамен не дает даже искры чувства, не позволяет даже умереть за нее.
4 марта 1888 г. Леопарди и Шевченко ударяют порой в медную струну горького отчаяния, бесстрастного, как оскал мертвеца. Звук, извлеченный мужицкой рукой украинца, пожалуй, еще более мрачен, чем жуткие, резкие, замогильные аккорды итальянского горбуна. С каким трудом, должно быть, из груди Шевченко вырвалась эта жалоба, соединенная с насмешкой: «А может, боже, с панами ты советуешься, как править миром?»[78]
В поэзии этого мученика звучат ноты простые, но мрачные, хватающие за сердце, и слышатся в ней страдальческие стоны – а порой пронзительный крик, крик ста тысяч гайдамаков. Там привьется, взойдет и принесет плоды великая идея Лассаля. Низвергнуть пана и задушить царя, убить попа и повесить жида, мужику дать землю и образование – вот святое дело, взращенное в веках. Пан, будь то русский или поляк, оба дерут шкуру с украинцев… Там родился пан Леон и теперь он взирает глазами украинца на нашего краковского пана.
21 мая 1888 г. Труд! Да, труд! Но почему труд не вознаграждается, почему мой должник[79] ест обед, а я вместо обеда грызу ногти? Почему я провожу бессонные ночи за работой, а светское общество с шумом разъезжает в великолепных экипажах, веселится в салонах, пьет вино из замшелых бутылок? Да, во мне говорит уже не абстрактное мышление, а голос серой толпы голодных, задавленных, отогнанных от стола.
Значит, коммунизм?
Попробуйте вы, сытые господа, не увидеть его здесь, в нашей бездне!..
Эта голодная неделя надолго останется в моей памяти. Мои мысли стали глубже.