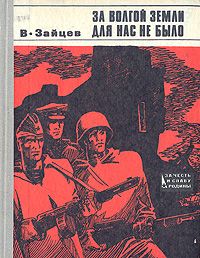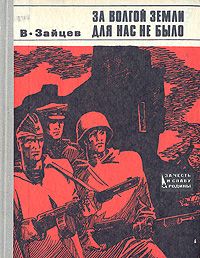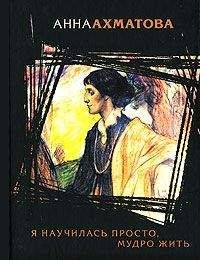людей. Но сколько сил, таланта, ума пущено по ветру! Умер в 1975 году, не достигнув семидесяти, великий Шостакович. Кто знает, сколько бы он прожил, если бы не было гадкой и глупой статьи «Сумбур вместо музыки», на годы выбившей из строя и его, и С. Прокофьева, и других замечательных музыкантов? Кто знает, какие книги погибли вместе с преждевременно отошедшими от творчества, а затем и погибшими Зощенко, М. Булгаковым, Б. Пастернаком, А. Белым, Б. Эйхенбаумом, Л. Орбели?
Помню, как однажды честный и умный писатель Михаил Слонимский рассказал мне, что девяносто третий укус пчелы смертелен. По каким-то вычитанным им данным, пчелиный яд остается, медленно накапливаясь, в организме человека, и вот, если вас в девяносто третий раз укусит пчела, вы умрете. «Так умер — добавил он — мой ближайший друг Михаил Зощенко». Он прочел заметку в газете, где не был упомянут в ряду других писателей — хотя его должны были назвать там по смыслу заметки. Получалось, что такого писателя — Зощенко — нет и не было. Укус был не такой уж болезненный но — девяносто третий. Можем ли мы знать, какой по счету укус ожидает сегодня или завтра каждого из нас? А кусают нас нещадно и постоянно, не думая о последствиях.
В СССР карают тех, кто размышляет об этом. Карая, продолжают совершать то же преступное расточительство: принуждают к эмиграции М. Ростроповича и В. Некрасова, Э. Неизвестного и И. Бродского. А ведь карать надо, но — расточителей. Гасителей просвещения. Гонителей талантов. Те же, кто горюет о судьбе своей культуры, те — истинные патриоты. Неужели таких азбучных истин не понимают режиссеры балаганных судов-спектаклей, которые в последние годы стали совсем уж анекдотическими? Процесс М. Хейфеца, которому за черновик статьи о Бродском дают четыре года лагерей и два года ссылки, и процесс его однодельца В. Марамзина, которого за более серьезные прегрешения почему-то просто высылают на Запад, удивительны своей нелепостью — из разницы между этими двумя приговорами особенно ясно, что законность уступила место полному произволу. Кому же это нужно?
«Почему-то» — написал я, размышляя о В. Марамзине в противоположность М. Хейфецу. Нет, не «почему-то», а по вполне понятной причине: дело М. Хейфеца проходило при всеобщем молчании, в темноте, дело же В. Марамзина — после статьи Иосифа Бродского, опубликованной во многих западных газетах — приобрело международный резонанс, значит уже было залито ярким светом. При свете у нас душить не любят. В темноте действует один закон, при свете дня — другой. Апофеоз законности!
Глава восьмая
БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ
Я написал, что после 25 апреля уже вел другую борьбу. Это и верно, и неверно. Другую — тоже, вовне. Но и внутри мне еще казалось возможным что-то сделать, особенно в Союзе писателей: все же это организация — общественная, меня там давно и хорошо знают, и в Ленинграде, и в Москве, да и решение, вынесенное ленинградским секретариатом, вопиюще беззаконно. Я еще надеялся, что есть какой-то смысл жаловаться в Москву, в Союз писателей СССР, и что там могут возмутиться «местной» несправедливостью. Впрочем, уже существовал (я этого долго не знал) документ, официально подтверждавший исключение; то было постановление секретариата Союза писателей РСФСР от 5 мая. Удивительнее всего здесь дата: секретариат собирался редко, ленинградское заседание состоялось 25 апреля, 1 и 2 мая были праздники; значит, секретариат РСФСР состоялся сразу, в один из первых же послепраздничных дней, чтобы завершить операцию скорее, как можно скорее. Никто, однако, не спешил прислать этот документ мне. Только в начале июля меня пригласили в Дом писателя и вручили бумагу, в которой говорится: «…исключить из рядов Союза Писателей СССР за враждебную антисоветскую деятельность».
Позднее мне рассказали, что ленинградское постановление было формулировано иначе: «…за антиобщественную деятельность». И что будто бы Холопову в Москве даже влетело за либерализм (за либерализм!). И что секретариат РСФСР, который уж и вовсе ничего не знал — ни меня, ни моих обвинителей — настоял на формулировке самой категорической:
«…за враждебную антисоветскую деятельность».
Получив такую выписку, я решил, что мое дело либо совсем скверно, либо совсем хорошо.
Хорошо, потому что уж очень неадекватной была формула исключения и очень явно дышала озлобленностью: зачем два определения, к тому же тавтологических, к моей «деятельности»? Уж если она «антисоветская», зачем еще «враждебная»? Ведь это одно и то же: может ли быть «антисоветская» — и не враждебная? Материалы «дела» не оправдывали ни существительного «деятельность», ни обоих определений. Значит, основания бороться у меня были — так сказать, юридический повод. Я все еще простодушно верил — или хотел верить — в какие-то юридические нормы. Что делать, у каждого из нас, интеллигентов, жива уверенность в конечном торжестве справедливости и права.
Скверно, — потому что на основании подобной формулы не из Союза писателей исключают, а сажают в лагерь лет на семь. Подумать только: «Враждебная антисоветская деятельность!» У нас и за меньшее арестовывают. Выходит, Союз писателей вынес официальное постановление о том, что моя вина доказана, и что я должен быть осужден уголовным судом по 70-ой статье Уголовного кодекса.
Но, как оптимист, я решил исходить из первого варианта и продолжать борьбу, начатую гораздо раньше письмом Брежневу — на таком письме решительно настаивали все мои друзья.
Копию этого письма я послал для ознакомления в Союз писателей СССР и в ректорат Института, и стал ждать ответа. Ответа не было ровно месяц. Восьмого июня меня пригласили в Смольный, к секретарю обкома КПСС Кругловой. Запись беседы, состоявшейся в кабинете Кругловой два дня спустя, я сделал в тот же вечер, вернувшись домой.
Однако прежде, чем читатель познакомится с нею, хочу представить ему Зинаиду Михайловну Круглову, в то время второго секретаря ленинградского обкома партии, ведавшую «пропагандой», то-есть прессой, книгами, музеями, театрами, образованием — всей культурой. Я впервые увидел ее года за четыре до того: на трибуне исторического колонного зала в Смольном стояла неизвестная мне (я опоздал) женщина средних лет с внешностью не то ткачихи, не то игуменьи, и тусклым голосом монотонно считывала с бумажки трафаретные фразы о расцвете социалистической культуры и ее перспективах; говорила она мертво, безнадежно скучно, не слишком грамотно и выглядела непроницаемо: на ее скуластом лице не появилось ни тени улыбки, или волнения, или смущения, или еще чего-нибудь человеческого, ни одни мускул не дрогнул. Дочитав свою речь, она спустилась в президиум и тут я