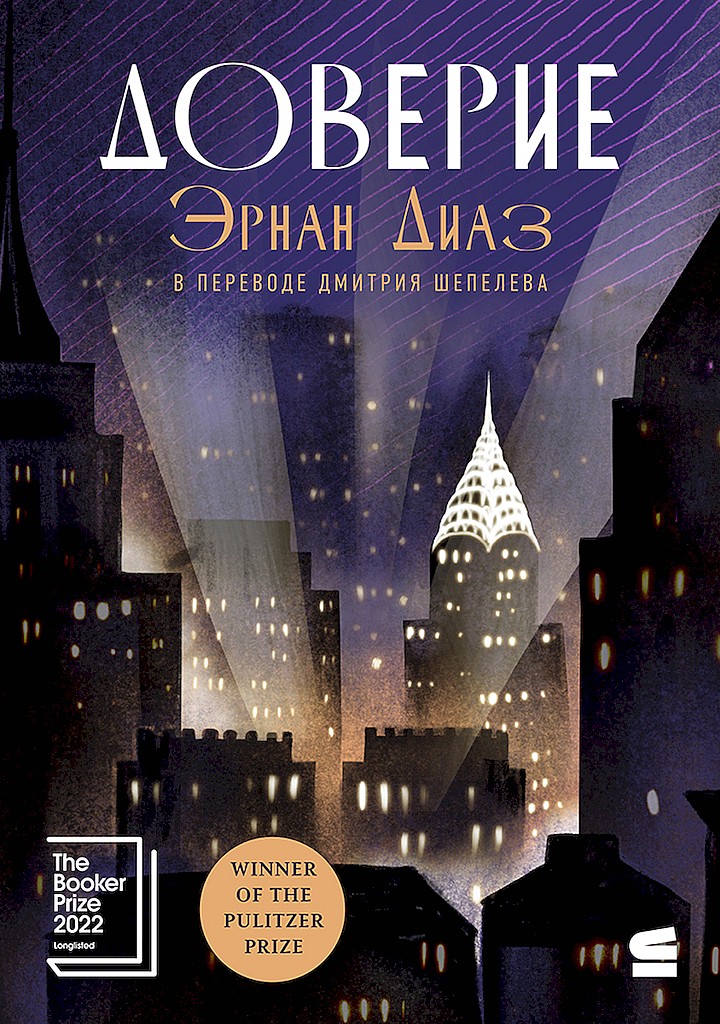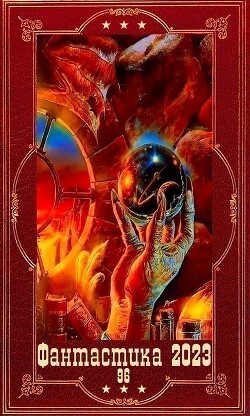class="p1">«ЭНДРЮ БИВЕЛ, НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИНАНСИСТ, УМЕР ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА».
Только пройдя три-четыре шага, я осознала прочитанное. Я вернулась к киоску. Эти слова были на первой полосе «Нью-Йорк таймс». Как и на всех остальных газетах.
«Сан»: «СМЕРТЬ УНЕСЛА ЭНДРЮ БИВЕЛА».
«Американ»: «ЭНДРЮ БИВЕЛ, ВЕЛИЧАЙШИЙ ФИНАНСИСТ, УМЕР В 62».
«Пост»: «УМЕР ЭНДРЮ БИВЕЛ, ПРАВИТЕЛЬ ОГРОМНОЙ БАНКОВСКОЙ ИМПЕРИИ».
«Il Progresso»: «ANDREW BEVEL È MORTO».
«Уолл-стрит джорнэл»: «ЭНДРЮ БИВЕЛ, 62, УМЕР».
«Геральд»: «БИВЕЛ МЕРТВ».
Непроизвольно я поспешила в сторону дома Бивела. Помню абсурдную мысль, что надо бы проверить новость о его смерти в следующем киоске. В каждом квартале я раз-другой припускала рысцой. Мной двигало не горе, а необъяснимое чувство неотложности.
Едва повернув на 87-ю улицу, я почувствовала: что-то здесь не так. Людей было чуть больше обычного, и двигались они чуть быстрее обычного. Перейдя Парк-авеню и достигнув Мэдисон, я поняла, что не сумею выполнить свою неотложную и неясную миссию. Семенившие репортеры, любопытные прохожие и полисмены направлялись к Пятой авеню, образуя столпотворение в конце улицы, перед самым крыльцом дома Бивела, и я поняла, что меня там никто не ждет.
Следующие несколько дней прошли в тихом сумбуре. Я продолжала работать над мемуарами Бивела, меняя местами разделы, правя тот или иной абзац, создавая и вычеркивая новые сцены, пытаясь увидеть их глазами Бивела. К стене за пишущей машинкой я прислонила промокашку Милдред. Все эти надписи фиолетовыми чернилами задом наперед по-прежнему ни о чем мне не говорили.
Тем временем, хотя тема смерти Бивела продолжала занимать газеты и журналы, заметки становились короче и уже не печатались на первых полосах. И если в причине смерти сомнений не возникало (внезапная остановка сердца; найден в своей комнате через три-четыре часа после этого; вероятно, его можно было бы спасти, если бы кто-то вовремя принял меры), его наследство уже вызывало разногласия. Не имея ближайших родственников, он завещал большую часть своего имущества на благотворительность. Из наших разговоров я знала, что для него это имело первостепенную важность. — такой поступок, по которому в памяти людей он раз и навсегда останется великим филантропом и благодетелем. Его завещание составляло краеугольный камень того, что он называл своим «заветом», и этим же словом назвал последнюю главу своих мемуаров. Но, как я узнала из разговоров с Бивелом (и позже убедилась в этом, прочитав о спорах из-за его денег), большое состояние редко имеет одного владельца. Здесь пересекаются интересы многих. Богатство подобно не столько гранитной глыбе, сколько речному бассейну со множеством притоков и рукавов. Множившиеся претензии и судебные иски со стороны партнеров, кредиторов и инвесторов Бивела привели к замораживанию его имущества. Большая часть его оставалась в этом юридическом чистилище в течение десятилетий, до конца 1970-х годов, когда начались ремонтные работы, в итоге превратившие дом Бивела в музей.
Каждый день я ожидала звонка из конторы Бивела с просьбой сдать все записи и документы и немедленно освободить квартиру. Но этого так и не произошло. Смерть Бивела была такой внезапной, что он, вероятно, не оставил никаких распоряжений на этот счет. Однако мне позвонил мистер Шэкспир, тот, что провел со мной собеседование перед тем, как меня принял Бивел. Мы обменялись банальностями и бегло поделились мрачными чувствами по поводу случившегося. Повисла пауза, и я была уверена, что сейчас он коснется квартиры. Но он заговорил о нашем собеседовании. Он вспомнил о моей квалификации и прекрасной речи и без промедления предложил работу. Я спросила о его секретарше, с которой познакомилась перед собеседованием. Он ответил, чтобы я не волновалась об этом. И добавил, что новая должность меня не разочарует. Он будет в восторге, если я соглашусь. Разумеется, после должного периода траура. Неожиданно я различила почтительный тон в его голосе. Моя квалификация и прекрасная речь были здесь ни при чем. Он просто хотел себе личную секретаршу Бивела.
Я согласилась, в основном потому, что решила ни в коем случае не возвращаться под бок к отцу.
Мне давно было пора навестить его. Я шла по Лексингтон, думая, как подарю ему ножик, и мне казалось, будто вокруг разыгрывается бледное подобие недавнего столпотворения; поездка в подземке заставила меня понервничать. Больше всего я надеялась, что отец что-нибудь скажет о смерти Бивела. Он бы ни за что не уделил внимания такому событию при других обстоятельствах, но в данном случае это стало бы неявным признанием вины — признанием того, что он знал о моей работе на Бивела из бумаг, которые взял у меня. Для того, кто никогда не извинялся, это было бы сильно.
Он встретил меня с комичной радушностью.
— Возвращение блудной дочери! А я думал, ты совсем забыла старика-отца! Уж и не чаял увидеть тебя!
Крепкие объятия, колючие поцелуи. Отец смахнул инструменты и мусор со стула и предложил мне присесть.
— Уверен, не сравнить с твоей манхэттенской квартирой. Я бы прибрался, если б знал, что ты придешь.
Страшно было смотреть, как там все заросло. Казалось, такую грязищу уже не выведешь. И она пахла безумием. Но от этого моя любовь к отцу только вспыхнула с новой силой. Любовь, так тесно переплетенная с жалостью, что с того дня они слились для меня в одно чувство.
Я протянула ему подарок, и он развернул его.
— О! Не-не-не-не! — Он швырнул коробку на кучу сырных корок, гвоздей и сухой листвы и отпрянул. — Разве не знаешь? Должна бы знать. Очень плохая примета. Хуже не бывает.
— Плохая примета? — Я почувствовала, как во мне закипает раздражение, и скрыла его смешком. — Серьезно? Плохая примета? И ты еще называешь себя анархистом?
Как же было приятно сказать это. Словно лопнуть очередной его догматический шарик. Я понимала, даже в тот момент, это была мелкая (и слабая) форма мести за кражу моих бумаг, но мне все равно полегчало. А еще я его подначивала: станет ли он, несмотря на свой поступок, изображать обиженного, закрываться и дуться?
— Не-не-не-не. — Как ни странно, в его голосе не было ни злости, ни упрека — только сильное волнение. — Когда даришь кому-то нож, ты отрезаешь его от себя.
— Чего?
— Да. Если я возьму этот нож, быть беде. Мы поругаемся. Он отрежет тебя от меня.
Я всегда считала, что его легкая суеверность была просто наследием итальянских корней вроде легенд, шуток-прибауток и рецептов, что он привез с собой в Америку. Но он казался до нелепого серьезным. Я пожала