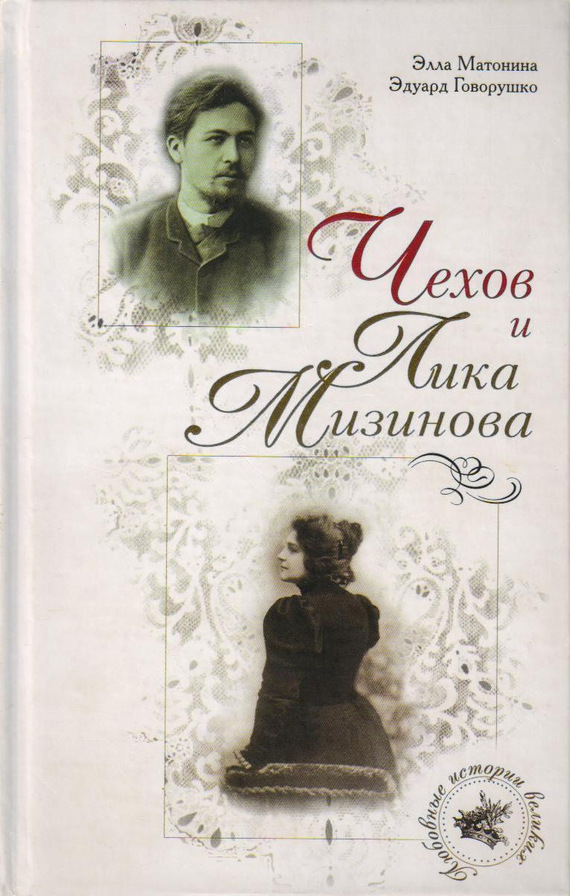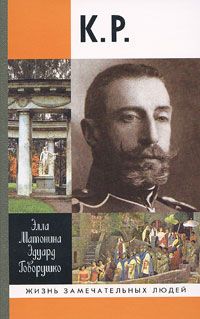а Ольга Книппер, актриса обдуманного вдохновения. И он, знаменитый писатель, медленно погружающийся в небытие, взывал к ее силе, жизненной яркости. «Когда приеду, пойдем опять в Петровско-Разумовское? Только так, чтоб на целый день и чтобы погода была очень хорошая, осенняя и чтобы ты не хандрила и не повторяла каждую минуту, что тебе нужно на репетицию». Он боялся этой ее хандры. Он может ей предложить свою известность, но не молодость, свежесть здорового мужчины. «Я пока ехал в Ялту, был очень нездоров… Это я скрывал от Вас, грешным делом». Скрывал, потому что хотел соответствовать ее цветущей силе. Он вспоминал дивный, жаркий до синевы крымский день, и они в мягкой коляске по дороге в Бахчисарай, и кто-то машет им руками, и они думают, что это сумасшедшие из земской больницы в Кокозах. А это персонал, узнавший известного писателя, приветствует его. Она хохочет, «милая, необыкновенная актриса, замечательная женщина». И он тихим баском вторит ей. Сколько надежд! Но забыться ему невозможно.
* * *
Лидия Стахиевна долго всматривалась в ялтинскую фотографию 1902 года.
Мать Антона Павловича в спокойной, не лишенной изящества позе, в ней какая-то странная отрешенность от всех забот. Сестра, как всегда, элегантна и аккуратна до излишества. На лице озабоченность повседневности. И лучезарная Книппер, вся светится своим волнующим счастьем и победительностью.
Чехов же – сама болезнь и тоска. Особенно невыносимы, до спазма, до боли душевной, его глаза. Один из его докторов сказал: несчастьем Антона Павловича было счастье, выпавшее на его долю к концу жизни, – женитьба и театр. Несчастье? Как сказать… А может, шанс? Актриса и театр помогли еще раз собраться с силами? «Без тебя я бы постарел и одичал, как репейник под забором», – писал он своей актрисе.
«Ему было бы мало моей красоты, забот и даже умных разговоров, и даже умения быть поэтичной (чему бы я научилась для него), – поняла, угадала, как ей казалось, Лидия Стахиевна. – Ему необходимо было дело! А Ольга Книппер одушевила это дело. Им стал театр, возбудивший его интерес. Она в Москве. Он в Ялте. Но им есть о чем говорить. Они оба в счастливой театральной лихорадке».
«Художественный театр – это лучшие страницы той книги, которая будет когда-нибудь написана о современном русском театре». Вот куда он залетает! И своей «необыкновенной, знаменитой актрисе», «актрисище лютой», «великолепной женщине», дает десятки советов: оставить панические мысли об успехах и неуспехах, быть готовой к ошибкам, неудачам, гнуть свою линию. Советует, как играть Сарру в «Иванове», Машу в «Трех сестрах», Аркадину в «Чайке»… Он ворчит: «Успех вас избаловал, и вы уже не терпите будней». И себя не жалеет: «…говорил со Станиславским, дал ему слово окончить пьесу к сентябрю… Пьеса начата, кажется, хорошо, но я охладел к началу, оно для меня опошлилось… Все время я сидел над пьесой, но больше думал, чем писал»… Доктора последнюю в его жизни зиму разрешили провести в Москве. Он умилялся морозу, снегу, саням, скрипевшим полозьям, розовому солнцу, мохнатым елкам. Он радовался своей новой шубе и бобровой шапке. Он счастлив был ходить на репетиции…
…Говорили, будто бы Мария Андреева и Ольга Книппер, две красавицы актрисы, разыграли меж собою двух драматургов – Горького и Чехова.
«Если это и так, – поставила точку в своих размышлениях Лидия Стахиевна, – стало быть, они обе хотели славы театру».
Сколько достоинств и ухищрений…
Сколько спорного и безусловного…
Сколько искреннего и смоделированного…
И все это сложилось в венчанную совместную жизнь на 41-м году жизни Чехова.
Он – Книппер: «Ты адски холодна», – и грустный комментарий: «как и подобает актрисе».
Книппер о нем: «Я чуяла в нем человека-одиночку».
Но смысл всего этого был прост: он влюбился в Ольгу Леонардовну. Ощущал с ней то, что человек с нежным сердцем чувствует в золотую пору детства. Она же взяла в руки не новую роль или роли – взяла его сердце.
У сердца два закона: любовь и смерть. Это с ним и случилось…
* * *
Лидия Стахиевна почувствовала усталость: как же дорого обходятся выяснения отношений с прошлым!
…Боли во всех уголках тела вдруг ушли разом, как сговорившись. Пропала боль душевная – от предчувствия конца и осознания неудавшейся жизни. Исчезло ощущение места – больничной палаты с ее слежавшейся духотой и запахами витавшей рядом смерти – и времени: Лидия Стахиевна оказалась как бы нигде и одновременно везде. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И знала ответы на любые вопросы о себе, которые так мучительно искала в жизни. Вопросов, собственно, никаких не было, только твердое знание – и никаких сомнений.
Был момент, когда Антон Павлович действительно мог решиться на брак с нею. Стоило ей лишь продемонстрировать готовность соответствовать тому образу любимой женщины и жены, который сложился к тому времени в его голове и в сердце. Но это было выше ее душевных сил и возможностей. И даже желания: никакой совместной жизни с ним она и представить себе не могла. С кем угодно – да, с ним – нет. Теперь она удивлялась, что сумела так долго быть прибежищем интереса человека, судьбой ей не предназначенного, общаться с ним на равных и даже по-женски ставить на место. Удивлялась и тому, что так долго считала неудавшейся собственную жизнь. Как глупо! Жизнь дана Богом и уже поэтому удалась.
Собственно, все ее мужчины так или иначе ожидали от нее соответствия. За исключением одного, Санина, который, как она со всей отчетливостью поняла, и был ее судьбой. Он не требовал от нее никаких метаморфоз, довольствовавшись лишь одним ее соответствием – самой себе. А это и есть настоящая и чистая любовь, которая случается только в детстве. Его любовь и жертвенность примирили ее и с жизнью, и с собой. Как жаль, что она только сейчас поняла, что это и было тем самым счастьем, которое находилось с ней всегда, но которого она почему-то не замечала. И заметила только сейчас, когда умирала.
В чувство ее привел запах, который раньше она считала запахом смерти. Ее широко открытые глаза увидели стеклянную стенку, которой она была отгорожена от большой больничной палаты, наклонившуюся над ней сиделку с ватным тампоном в руке и мужа с запавшими глазами. По-прежнему она не чувствовала никакой боли, лишь легкость во всем теле.
– Милая, ты меня видишь? Ты знаешь, кто с тобой говорит?
– Знаю, Саша. Ты примирил