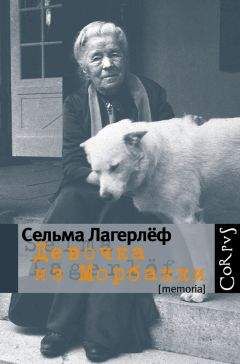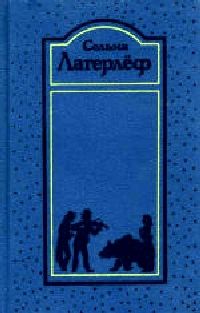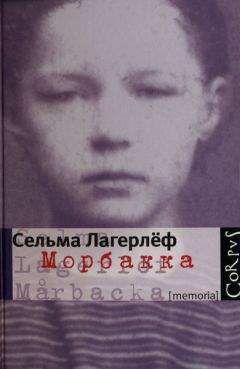— Они под водой лежат, — сказала швейцарова жена, — только сохранить их свежими все равно невозможно. Трупный запах нипочем не истребишь.
— Ну, ребятки, надо вам знать, что сюда свозят тех, кто наложил на себя руки, — сказала кухарка, — чтобы будущие доктора могли их разрезать.
Мы вошли в большой подвал, вполне светлый, только пахло там так противно, что мы зажали руками носы.
— Может, лучше все-таки поворотить обратно? — сказала швейцарова жена.
— Да мы на минуточку! — с этими словами кухарка отворила какую-то дверь.
Я стояла совсем рядом и заглянула в продолговатое, полутемное помещение. Вдоль одной стены тянулись широкие нары, а сверху на них непрерывно сеялась водяная изморось. На нарах лежали четыре покойника, головами к стене, ногами к подвалу, как бы в большой семейной кровати.
Я видела их лишь одну секунду, но точно знаю, как они выглядели. Ближе всех к двери лежал старик с клочковатой черно-седой бородой и острым носом. Одет в долгополый сюртук, так что виднелись только ступни, босые, все в шишках и болячках. Если б не эти ноги, смотреть на него было бы совсем не трудно.
Подле старика лежала молодая женщина. Ну, не юная, конечно, лет этак тридцати. Высокая и жутко распухшая. Одежда во многих местах порвана, так что в прорехах виднелась бледная, сероватая кожа. Лицо распухло меньше, чем тело, поэтому я заметила, что она была красивая.
Рядом с ней — мальчик лет пяти или шести. На лицо надвинута шапка, так что я его не видела, но тело с одного боку совсем обнажено, и из большой раны вываливались внутренности.
Последний мертвец выглядел как узел черной одежды. Думаю, это был мужчина, но не уверена. В одном месте из узла торчала нога, в другом — рука. Волосы лежали там, где должно быть ногам, а подбородок высовывался из-под мышки. Судя по всему, его изрезало на куски.
Вот что я успела увидеть, прежде чем подошла швейцарова жена и захлопнула дверь.
Когда мы поднимались по лестнице, наша кухарка сказала, что нынче покойники просто жуть, а швейцарова жена слегка недружелюбно ответила, что они примерно такие же, как всегда. Вероятно, не одобряла, что мы, дети, на них смотрели.
Хотя я одинаково отчетливо разглядела всех покойников, больше всего меня тронула утопленница. Подумать только, она была так несчастна, что бросилась в озеро и утопилась!
Я слыхала подобные рассказы и не раз читала подобные истории, но раньше не понимала, о чем они повествуют. Да-да, ничегошеньки не понимала в описаниях несчастий, какие читала в книгах.
Так ужасно, что все это правда.
Я думала о больных, о калеках, а в первую очередь о тех, кто так несчастен, что не может больше жить.
Смогу ли я радоваться теперь, когда знаю, сколько на свете бед?
Никогда в жизни, наверно, не смогу играть и смеяться. Никогда не смогу пойти в театр. Никогда больше не смогу быть такой, какой была, уходя воскресным утром из дома.
Утром, когда мы шли через Кунгсхольмсбру, мне казалось, что там очень красиво. На обратном пути я ничего такого не видела. Наверное уже ничто на свете никогда не покажется мне красивым.
Возвращаясь домой, я думала, что Стокгольм уродливый город. Думала, что вода под мостом полна лягушек и громадных ослизлых тритонов. И встречные прохожие на мосту казались мне вовсе не людьми, а полуразложившимися трупами.
26 марта, на следующий день после Благовещения
В понедельник я записала, что расскажу об одной странности, приключившейся у меня с Акселем Оксеншерной. А теперь беру свои слова обратно, ведь, если вдуматься, все это чистейшие фантазии. Очень красивые, и сперва, когда я думала, что все это правда, при одной лишь мысли об этом на душе у меня становилось так торжественно, но теперь-то я понимаю, что все неправда и, пожалуй, совершенно не заслуживает записи в дневнике.
Впрочем, написать все-таки можно, раз уж я честно признаюсь, что в это не верю.
Так вот, утром в понедельник, когда я вошла в гостиную, чтобы сделать в дневнике запись о Каролинском институте, то сперва некоторое время сидела, глядя на красивую картину, изображающую Карла X Густава у смертного одра Акселя Оксеншерны. Мне казалось, это сущая отрада для глаз после всех ужасов, виденных накануне.
Но радовалась я недолго, потому что немного погодя взгляд мой отвлекся от картины и вместо нее я как наяву увидела нары в морге и четырех разнесчастных покойников, сиротливо лежащих там под водяной моросью.
Все воскресенье после полудня я видела их перед собой, и даже вечером, когда легла, и утром, когда проснулась. Мне было их до невозможности жалко, не удивительно, что они стояли у меня перед глазами.
Я бы утешилась, если б смогла им чем-нибудь помочь. Очень уж тяжко сознавать, как ужасно они страдали, пока были живы. И ничего лучше мне не придумалось, кроме как если бы суметь украсить место их последнего упокоения.
Но это, понятно, было невозможно. Что бы я могла сделать? Им суждено лежать, как лежали. Сущий кошмар, и я была в полном отчаянии. Маленькая и бессильная.
Потом я вдруг мельком глянула на прекрасную картину с ее роскошными занавесями и коврами и сказала себе: «Вот если б раскинуть над ними такие великолепные драпировки!»
Мысль до ужаса нелепая. Драпировки-то нарисованные, и их, понятно, нигде не раскинешь. Но как бы там ни было, я подошла к картине и попросила Акселя Оксеншерну, чтобы он распорядился укрыть четверых покойников своими прекрасными занавесями, тогда бы они не лежали в морге такие жуткие и пугающие. Он ведь мертв и, быть может, способен сделать то, что нам, живым, невозможно.
Я все время знала, что это не всерьез, правда, не совсем не всерьез.
Я сказала Акселю Оксеншерне, что знаю, при жизни он был отцом шведскому народу, вот и прошу его теперь помочь четверым горемыкам, они ведь тоже шведы, хоть и принадлежат другому времени, не его.
Пока я молила Акселя Оксеншерну о помощи, я видела перед собою морг и нары с покойниками, и хоть это, конечно, была просто фантазия, мне вдруг почудилось, будто их озарило дивным сиянием.
Я снова устремила взгляд на Акселя Оксеншерну — он лежал совершенно неподвижно, как всегда. Однако ж дивное сияние все ярче озаряло четверых покойников на нарах.
Я замерла, не смея шевельнуться. Ведь это было… как бы это сказать? Я видела перед собою морг, и теперь над горемыками словно раскинулся покров из лучей света.
В конце концов я уже их не различала, они утонули в сиянии.
Я помнила их так же отчетливо, как раньше, но не видела.
Впрочем, мне понятно, все это не более чем плод воображения.
Мало того, что я верю в могущество усопших, вдобавок я знаю, что Сельма Оттилия Ловиса Лагерлёф из Морбакки способна вообразить себе совершенно невозможное.