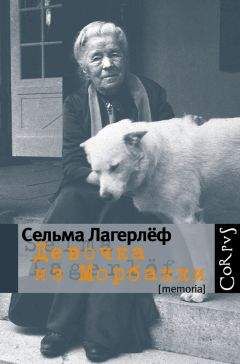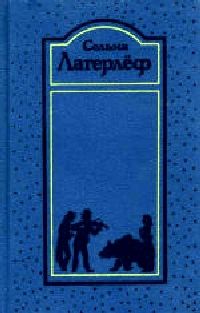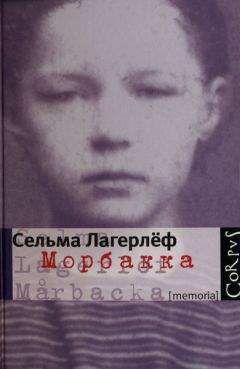Впрочем, мне понятно, все это не более чем плод воображения.
Мало того, что я верю в могущество усопших, вдобавок я знаю, что Сельма Оттилия Ловиса Лагерлёф из Морбакки способна вообразить себе совершенно невозможное.
27 марта 1873 года
Третьего дня, на Благовещение, тетя спросила, не хочу ли я пойти с нею в Католическую церковь. Мне было безразлично, куда идти, и я тотчас согласилась.
Мы пришли заранее и заняли хорошее место впереди, так что могли видеть священников в их красных облачениях и мальчуганов-хористов, что сновали туда-сюда перед алтарем, перекладывали книги, преклоняли колена и махали кадильницами.
У меня щемило сердце, потому что я скорбела по бедной девушке, которая была так несчастна, что утопилась, и я вовсе не следила за литургией. Даже не заметила, как запел церковный хор, сидела и горевала, что девушка мертва, словно я знала ее и вправду любила.
И вот аккурат когда я все горевала, по церкви трепеща прокатились несколько высоких ясных нот.
Я очень удивилась, потому что никогда не слыхала ничего подобного. Я уже бывала с тетей в Католической церкви, и когда мы уходили оттуда, тетя всегда восхищалась прекрасным пением, но сама я никогда не слышала, как это красиво. Иной раз я думала, уж нет ли у меня какого изъяна со слухом, ведь я не могла воспринять то, чем другие так восхищались.
Теперь же, когда я скорбела об умерших, я слышала каждую ноту и диву давалась, как все это прекрасно.
Мне казалось, это как бы привет от бедной самоубийцы. Именно она сделала так, что у меня открылись уши и как раз в этот день я услышала пение.
Еще мне казалось, через это пение она сказала мне, что не стоит больше горевать о ней. Она слышала напев, еще более прекрасный, чем тот, какой слышала я, и уже не помнила страданий своей земной жизни.
Тут на меня низошло такое сладостное утешение, что я невольно заплакала.
Тетя увидела, что я плачу, наклонилась ко мне и спросила, уж не плохо ли я себя чувствую.
Я покачала головой и шепнула ей, что плачу оттого, что напев так прекрасен.
— Да-да, верно, — шепнула в ответ тетя. — Мне кажется, я и сама вот-вот заплачу.
Мы сидели, держась за руки, тетя и я, пока музыка не отзвучала.
Одиннадцатая и двенадцатая недели
Среда девятое апреля
В гостиной
Тетя и дядя такие милые. Представьте себе, они пригласили Даниэля на Пасху в Стокгольм, чтобы мы, брат и сестра, могли побыть вместе! Вправду замечательно, что Даниэль приедет сюда, и надеюсь, я буду вести себя достаточно хорошо, ведь Даниэль всегда опасается, как бы ему не пришлось стыдиться из-за меня.
Целых четырнадцать дней я не делала записей в дневнике, потому что чувствовала себя такой усталой и вялой, сил словно бы хватало только на уроки. Да в общем-то не происходило ничего, о чем хотелось бы написать. Но сегодня в первой половине дня приезжает Даниэль, и, наверно, теперь опять найдется что-нибудь интересное для рассказа.
Четверг десятое апреля
Вчера утром, около десяти, приехал Даниэль, и представьте себе, первое, что он мне сказал, когда мы встретились на Центральном вокзале, — передал привет от студента, который минувшим Рождеством вместе с нами ехал в Стокгольм.
Я так удивилась, что слова вымолвить не могла. Но тетя, тоже встречавшая Даниэля на вокзале, немедля спросила, что это за студент, о котором мы толкуем.
— Один из Сельминых поклонников, — рассмеялся Даниэль. — Знаете, тетушка, нынче в поезде он сказал мне, что она одна из самых интересных молодых девушек, каких он встречал.
— Батюшки! — воскликнула тетя, и, по-моему, они с Даниэлем оба решили, что тот, кто говорит такое, не иначе как слегка спятил. — И что же, есть надежды на будущее? — продолжала тетя тем же бодрым тоном.
— Увы, нет, тетушка, — ответил Даниэль. — Дело в том, что он уже помолвлен.
Тут засмеялись все — и Даниэль, и тетя, и я. Давненько я так не веселилась. Подумать только, студент сказал, что я интересная, и не просто интересная, а одна из самых интересных девушек, каких он встречал! А Даниэль-то — как замечательно с его стороны рассказать об этом!
Когда Даниэль напился кофе и некоторое время посидел-поговорил с тетушкой, она предложила ему и мне пойти посмотреть смену караула. Ведь нам, брату и сестре, наверно, есть о чем поговорить друг с другом.
Мы так и сделали, вышли из дома и, хотя никаких секретов для обсуждения не имели, время все равно приятно провели. Даниэль, как всегда милый и в добром расположении духа, с увлечением разглядывал хорошеньких стокгольмских девушек и их весенние туалеты. (Больше всего его восхищали красивые маленькие ножки и изящные башмачки, а наилучший его отзыв о молодой девушке гласил: у нее прелестная походка. По-моему, он вполне искренен, и так много говорит о башмачках и походке вовсе не затем, чтобы поддразнить меня.)
И день выдался на редкость погожий. Снегу в Стокгольме выпало куда меньше, чем у нас дома, в Вермланде, да и тот, что выпал, уже почти растаял. Сточные канавы полны серой воды. Она далеко не такая прозрачная и искристая, как в нашем Полоскальном ручье, но все равно занятно смотреть, как она в пене спешит куда-то. В одном месте несколько соломин и обрывок тряпки образовали на дне канавы маленькую запруду, и вода выплеснулась из канавы на мостовую. Даниэль не мог спокойно пройти мимо, студенческой тросточкой вытащил солому и тряпку. Забавно было смотреть, ведь в этом — весь Даниэль. Дома в пасхальные каникулы он всегда рыл во дворе канавки, чтобы отвести талую воду.
На площади (она носит имя Карла XII) оказалось множество нарядной публики, которая прогуливалась по красивой аллее с восточной стороны. Я показала Даниэлю и Фредриксона,[47] и Альмлёфа,[48] и генерала Лагерберга,[49] и многих других примечательных особ, которых я знала в лицо, а он нет. И подумала, что он наверное доволен, что я в Стокгольме как дома. И чувствовала себя настоящей стокгольмской жительницей.
Когда показался сменный караул, впереди которого вышагивали мальчишки, мы как раз подошли к памятнику Карлу XII и остановились на краю тротуара, ожидая, пока они пройдут мимо. Я уже издалека увидела, как тамбурмажор взмахивал своим красивым бунчуком и как надраенные медные инструменты сверкали на солнце. Гремели барабаны, пронзительно пели трубы, и все вокруг шагали в такт музыке.
Так интересно, так красиво, так волнующе. С самого приезда в Стокгольм я не ощущала такой бодрости и душевного подъема.
И совсем уж кстати развод караула происходил под звуки марша, который я знала, потому что г-жа Хедда Хедберг много раз пела его у нас дома, в Морбакке. Она говорила, музыка марша взята из оперы «Пророк», но чьи там слова, ей неизвестно. Я давненько не слыхала этих слов, но они всплыли в памяти, когда я узнала мелодию.