а там передадимся татарам и уедем с ними. Денег у меня тоже припасено 5 рублей, у тебя, Миша, рубль, да ты, Вася, выпроси либо стащи у матери сколько-нибудь, и горевать нечего будет. Согласны, братцы?
— Не сбыться этой затее: поймают, беспременно поймают и тогда совсем запорют, — настаивал Бахман.
— Нельзя этого, — горячо молвил Васильев. — У меня мать да сестра с горя пропадут, если я сбегу.
— А обо мне разве некому плакать? — перебил Мараев. И отец, и мать, и брат, и сестры меня самого любят ничуть не хуже твоего; я их тоже люблю и жалею. Ну да они нас от розог не спасут! Да куда! Через них-то нам и достается втрое больше других, у кого родных нет. И ротный, и фельдфебель пронюхали, например, что у моего отца деньги водятся, и требуют, и клянчат беспрестанно. Он давал, давал им, ненасытным, да и перестал. На них, говорит, не напасешься денег, самим надо. И правда, работник он у нас один; день-деньской сидит вон в казначействе, да считавши казенные капиталы, отпускавши их господам, да принимавши откуда принесут — все глаза перепортил, в очках уж худо видит. Ему самому пора бы уж на отдых, а тут дом, семья, всем надо пить-есть, одеваться-обуваться и все такое прочее… Да и шутка ли дело — 25 лет оттрубил казне, ранен в бок, в ногу, получил за это три креста, а денег ни гроша… Ну поневоле сидит в казначействе счетчиком 15-й год. Так вот, как отец перестал давать им денег, они осерчали на него и бьют, и дерут за это меня с братом. Много раз умолял я отца помочь нам, а он говорит: «Пособить деньгами не могу: все уж повысосали. Терпи, пока можешь, авось нам удастся вырвать тебя из их когтей [7]. Выйдешь на волю, много надо будет денег на приписку тебя в купцы. Я хочу, чтоб хоть ты у меня был вольный человек». И погладит меня, бывало, по голове таково ласково, поглядит мне в лицо, даст гривенник на гостинцы да и пошлет меня с братом гулять. Пока дома сидишь — на сердце легко, а как вернешься в казармы — не глядел бы ни на что и ни на кого!.. Когда эта воля выйдет, Бог весть! Говорят, по году и по два ходят бумаги — ну, а до тех пор три раза околеешь от розог и побоев. Я уж и ждать-то ее отчаялся — не стану! Скажи, Вася, кстати, за что это ротный постоянно тебя дразнит: «Матушкин сынок, ему бы только и сидеть под подолом сестрицы». Тут тоже что-нибудь да кроется?
— Известно, не даром, — грустно отозвался Васильев. — У него, видишь ли, глаза разгорелись на сестру, потому красивая она, молодая да стройная, как редкая барышня. С год тому назад шел я однажды с нею по улице, он увидал ее и без зазрения совести повадился ходить к нам и строить ей куры. «Полюби, говорит, меня красавица», да и все тут. А мать-то спроста и говорит: «Эдакого-то человека полюбить? Да вы с ума никак спятили! Вы нам не ровня, идите себе своей дорогой, а нас оставьте в покое. Моя дочь вовсе не такая, чтобы всякий встречный и поперечный мог ей навязываться со своею любовью…» И сколько она ему ни говорила, как сестра его ни конфузила и сколько от него ни пряталась, а он все не отставал, все хотел сбить ее с панталыку. Сидит она раз дома, наклонившись над работою, шьет себе. Вдруг он входит, подкрадывается потихоньку к ней сзади, облапил да и поцеловал ее в самые губы. Сестра, не будь промах, рванулась вперед да как свиснет его со всего размаху по роже — так ажно стены задрожали. Матушка была в то время в сенях, услышала треск пощечины и вбежала в комнату. А сестра-то в слезах. Обругала мать ротного скверным словом да с кочергою в руках и выпроводила его за ворота. С тех пор он и носу не кажет. Зато с того же дня стал мстить мне, мстить ужасно. Я однажды пел один песню в поле, где решительно никого не было. Он услыхал — сейчас меня драть (голос, вишь ты, портил). Волосы у меня велики — драть, остригусь — опять драть: зачем, дескать, коротки волосы. Словом, за все драть. Но ему и этого мало: едва подойдет праздник, он непременно уж придерется к чему-нибудь и домой не пускает. Там, со своими, хоть горе-то свое выплачешь, на сердце все легче станет, а из-за него, проклятого, и это редко удается… А ведь как хорошо дома-то!..
Васильев вытер кулаком катившуюся по щеке слезу, опустил голову и замолчал.
— Вам, братцы, хорошо: хоть есть родные, есть с кем поговорить по душе, а вот мне-то каково? — начал Бахман, тоскливо поглядывая на товарищей. — Отца я совсем не помню. Мать, больная и бедная, кормила меня подаянием, и мы по-своему были довольны, пожалуй, даже счастливы. Когда мне минуло 11 лет, меня схватили однажды на улице и стащили в острог. Там я нашел человек 15 таких же, как я, горемык. Все они были попарно скованы по ногам. Меня тоже сковали с одним. Начали мы с ним знакомиться. Он спрашивает: «Ты как попался?» Так и так, говорю. Ну а я, говорит, три года сряду прятался; и в стоге-то сена леживал суток по двое голодным, и в печке-то чуть не задохся от жары, и в подполье с крысами укрывался под соломою, и по лесу-то вместе с матерью бродил в страшные морозы, и промежду могилками-то на кладбищах не раз с нею ночевывал. Где-где только не скрывался я от рекрутства, а вот попался-таки. И ведь как? По милости тетки, чтоб ей ни дна ни покрышки не было. Ей, видишь ли, кагальники (сотские) гуся [8] подарили, она меня за него, за гуся-то, и выдала им с головой. С неделю лежал я последний раз зашитым в перине, дышал, ел, пил сквозь дырку, а мать убирала за мной, точно за грудным ребенком. Вдруг слышим, кагальные идут к нам. Мать мигом разделась, легла на постель, на меня, значит, да и заохала, застонала, будто больная. Кагальные пошарили для блезира на печке, в сенях, подошли к кровати, поглядели на мать, стащили ее без церемонии на пол, распороли посредине перину, вытащили меня из нее всего в пуху да и приволокли в острог. Посидевши недели с две


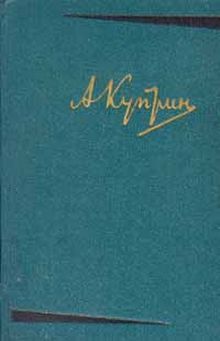
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/46592/46592.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)
