закованными, попали мы в рекрутское присутствие, сдали нас в рекруты. Мы и этому обрадовались: хоть кандалы-то сняли, а то просто измучились, бывши закованными вдвоем.
Отправили нас в губернский город. Мать потащилась за мною пешком. Дорогою конвойные и били ее, и издевались над нею сколько хотели. Едем, бывало, дорогою, они ее сперва посадят на задок подводы, где я сижу, поедут пошибче, да как только телега сравняется с ямою, болотом или лужею, так они столкнут ее, а сами ударят по лошадям. Она упадет лицом прямо в грязь, а они-то хохочут во все горло, любуются, как она потом бежит за нами вдогонку верст пять-шесть не переводя духу. Потом приостановят лошадей, посадят ее и, немного погодя, снова столкнут и снова потешаются. Я не смел не только заступиться за нее, но и пикнуть. И все это она из-за меня выносила! Бывало, украдкою поцелует меня, поплачет надо мною. Наконец конвойным надоело издеваться над нею, и они ее представили в этап, а этап отправил под конвоем обратно в город как беспаспортную… А что ей там было делать, коли у ней не было ни кола ни двора?
Из губернии погнали нас, человек 200, сюда. Шли мы дорогою в слякоть, в морозы, голодали, холодали напропалую. Кормили нас всякою дрянью, белье мы себе мыли сами, на дневках, а уж как вымывали — и говорить нечего: 16-летних было всего человек 40, а то все 10, 12 и 14 лет. Одежда наша была: шинель да полушубок. С усталости да от холоду мы, случалось, по нескольку дней сряду совсем не раздевались; валялись в грязи на полу, оттого к нам всякая нечисть приставала: и вши-то, и чесотка. Зачешется, бывало, бок или ляжка, сунешь туда руку, вытащишь полпригоршни вшей или блох, бросишь их на землю да и топчешь ногами: руками уж очень долго их убивать. И в полушубках-то вши развелись. Терпел, терпел я да выпросил раз на дневке у хозяйки ножницы и выстриг весь мех на полушубке так, что осталась одна кожа. Надел полушубок — легко, тело не зудит, не чешется. Я похвастался другим рекрутам; те, на меня глядя, тоже испортили свои полушубки. А наутро мороз, и мы, идучи на станцию, чуть не замерзли от стужи: кожа-то не грела. Узнал про это партионный, и струсил ли он или ему нас жаль стало, только к вечеру же истопили на станции несколько бань разом, обмыли нас, выжарили на полках нашу одежду и дали новые полушубки. Через несколько станций вши снова обсыпали нас. А к взрослым рекрутам, которые были большею частью паршивыми еще дома, и подойти близко нельзя было; от них так и разило падалью, точно дохлой кошкой, что ли. Они, вишь ты, нарочно дома на себе паршу развели, чтоб увернуться от рекрутства. Надрежут, знаете ли, кожу на голове, на руке али на ноге, вольют внутрь надрезанного места скипидару, ворвани или купоросу да то и дело расковыривают рану-то. Оно, конечно, больно, ну, а все легче рекрутчины-то. Думают: паршивого не возьмут; люди смердящие, с прогнившими костями, с пархатою головою к службе не годятся. Ну, а ежели три раза кряду забреют затылок, тогда совсем лафа будет [9]. У иного в несколько дней все волоса вылезут, вся голова загниет, гной потечет по лбу, по затылку, за ушами, на шее сядут желтые болячки, на ноге виднеется кость, мясо около нее зазеленеет, заплесневеет, нога распухнет, пойдут огромные волдыри, короста. Мучается, мучается, а проку мало. Приведут, бывало, таких молодцов в присутствие, вложат в их бумаги по красненькой — и всем им живо забреют лбы, а потом прикажут солдатам лечить их. Те и начнут их водить через каждые двое суток в баню, мазать им на полке раны крепкою водкою, дегтем с солью и парить их вениками до полусмерти. Болячки потом понемногу засохнут, точно кора на дереве, солдаты примутся отдирать с них эту кору, а они поднимают гвалт на всю казарму. Как сдерут струпья-то, так человек, бывало, стоит словно совсем без кожи: одно мясо красное.
Месяцев через пять пути мы добрались сюда. Здесь нас насильно крестили и бросили на произвол судьбы. Купайтесь, дескать, в этом болоте сколько душе угодно, а из нас, ваших крестных, никому вы больше не нужны. Живи потом один и мучайся в этом омуте; никто-то тебя не пожалеет, всем-то ты чужой… Кто, примерно спросить, меня теперь приласкает от души, кто приголубит? Мать, что ли? Да жива ли она, где она, да и приголубит ли еще она меня, крещеного-то? Ведь крестился, значит, от родных отступился… Вот эдаким путем вся внутренность во мне изныла. Житья нету! Я руки на себя наложу.
Мараев мрачно глядел перед собою. Вдруг он оживился.
— Сказано: бежать, — молвил он, — что бобы-то тут разводить. Идет, что ли?
— Идет, — дрожащим голосом отозвался Васильев.
— Ну, а ты, Миша?
— Я?.. И я… покончу… — подтвердил Бахман, махнув рукою.
— Так идем собираться в путь-дорогу, — настаивал Мараев. — Как только стемнеет, чтоб и духом нашим больше здесь не пахло.
— Собираться так собираться, — повторил Бахман. — Не красна и жизнь-то, жалеть не о чем. Кончить лучше сразу, да и баста.
Друзья разошлись в разные стороны.
Ночью, когда все уже спали, произошло необыкновенное происшествие: один из кантонистов второй роты увидал черта.
— Караул, черт, черт, караул! — заревел он благим матом.
— Караул! Черт, черт, караул! — подхватили прочие часовые. «Караул!» — повторилось эхом в отдаленных комнатах.
Кантонисты повскакали с кроватей. Поднялся шум, гам, все столпились у входа в ретирадное место, откуда раздавался крик.
— Благо попался, надо поймать его, этого черта, — кричали кантонисты, — все бока ему переломать.
— Это он наши сапоги по ночам носит: к утру весь глянец пропадает!
— А гогочет-то в трубе, а свищет-то в окнах, все ведь, братцы, он же, этот самый черт!
— Тащите, братцы, скорее образ сюда!
— Лучше, братцы, в бутылку его заманить да пробкою и закупорить; пусть там издохнет. Несите бутылку-то.
— А поди-ка подставь ее, коль храбер, авось на месте же задушит. Боек больно, так покажи свою удаль.
— Что за крик! Кто там? — допытывались переполошившиеся унтера и фельдфебель.
— Черт стоит в ретираде, кантониста душит, давит, колет, — голосили со всех сторон.
— Унтер-офицеры, одеться в форму! — скомандовал фельдфебель. — Зайцев, беги за дежурным офицером. Живо!
Явился дежурный офицер и, протирая сонные глаза, спросил, что случилось.
— Черт, ваше бродье, душит в ретираде кантонистов, — отвечал наобум фельдфебель, тоже еще не очнувшийся порядком. — Что прикажете делать?


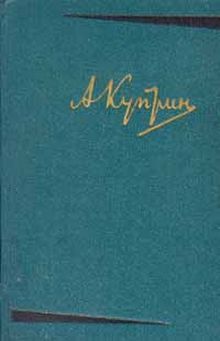
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/46592/46592.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)
