чем донес своевременно: как только он сорвал эполет, следовало по закону судить его снова и подвергнуть наказанию по совокупности преступлений. Мараева привели в канцелярию и без всякой уже торжественности одному прочитали решение. В тот же час отправили его в губернское правление, а оттуда — в острог. Выходя из канцелярии, Мараев — уже страшная, неузнаваемая тень прежнего красивого, здорового юноши, — прощаясь с окружающими его товарищами, занимавшимися в канцелярии (в числе их был и пишущий сии строки), искренне радовался своему избавлению от кантонистской жизни. По своему простодушию он не допускал даже и мысли, чтобы жизнь в каторжной работе могла быть хуже житья в заведении кантонистов. И, судя по «Запискам из Мертвого дома», это совершенно основательно.
Последний акт трагедии, в которой были главными действующими лицами трое юношей, разыгрался несколько лет спустя.
В канцелярию заведения привели однажды под конвоем высокого здорового мужчину, лет 25 на вид, в арестантской одежде, в кандалах, с длинными русыми волосами и такого же цвета бородою. То был Василий Васильев. Сзади конвоя стояла молодая женщина, довольно красивой наружности, держа за руку хорошенького мальчика лет шести. Женщина была жена, а мальчик — сын Васильева. Широкое, мускулистое лицо Васильева болезненно передергивалось, а большие голубые глаза его лихорадочно блуждали, переходя с одного предмета на другой. История странствия Васильева по белу свету и рокового возвращения в заведение была довольно коротка. Пробравшись верст за 400 от места расположения заведения, он достал каким-то путем чужой паспорт; зашиб затем трудом да бережливостью копейку, отошел еще несколько от большого тракта и поселился в маленьком городишке. Там он занялся кое-какою торговлею и, наконец, женился. Через год у него родился сын. Тихо, мирно прожил он таким образом несколько лет. По временам он впадал в грусть, скучал по матери, по сестре и в таких случаях прибегал к выпивке. Раз, будучи навеселе, выболтал он неосторожно тестю свою кручину, а тот, поссорившись с ним из-за чего-то, в пылу гнева выдал его полиции. Полиция сперва высосала из него в короткое время все его средства, а потом засадила в острог, затеяла переписку, по милости которой он и очутился в канцелярии. Жена его отправилась за ним вместе с сыном.
— Так ты, братец, так-таки и не хочешь сознаться, что ты кантонист Василий Васильев? — спрашивал его в канцелярии уже новый начальник. — Ведь есть улики. Станешь запираться, тебе же хуже будет.
— Нет, я не кантонист, а мещанин — это видно из моего паспорта, — грубо отвечает арестант, потупив голову. — Меня стращать нечего, я никаких улик не боюсь.
— Выдь-ка, матушка, сюда и погляди, не он ли твой брат? — продолжал начальник, повернув голову к боковой двери. Из двери вышла бледная, изнуренная молодая женщина. Взглянув на арестанта, она пошатнулась, остановилась, шагнула еще вперед, опять остановилась и, зарыдав, оперлась о стол.
— Ну что, матушка, он, что ли, твой брат или нет? — спросил начальник. — Скажи по совести, и разом покончим эту комедию.
— Он, батюшка, он, мой брат Вася, — сквозь слезы заговорила монашенка. — Вася, голубчик, ведь это ты, ты, мой сердешный! — добавила она и бросилась было к нему на шею.
— Убирайся прочь от меня! — озлобленно крикнул арестант и оттолкнул от себя монашенку. — Кой тут черт: брат! Ишь побраталась…
Но монашенка не унималась, рыданиям и причитаниям ее не было конца. Несмотря на упорное отрицание со стороны Васильева, начальник вынес из этой сцены убеждение в его виновности. Судьба его была решена.
Васильева прогнали сквозь строй и сослали в арестантские роты за шестилетнее нахождение в бегах, за подделку паспорта и упорное запирательство. Сына его взяли в кантонисты как человека, рожденного от кантониста, а жена, чаявшая освободить мужа, видевши экзекуцию над ним и лишившись не только его, но и сына, сошла с ума и кончила жизнь самоубийством.
Здесь, кстати, во-первых, заметим, что давилось, топилось и бегало очень много кантонистов, а во-вторых, расскажем другой случай. В заведение однажды привели седого старика, лет 50, когда-то в молодости отлынявшего от поступления в кантонисты. У старика были не только сыновья, но и внуки. Судили его, судили и, наконец, во внимание к чистосердечному его сознанию, старости и неспособности к боевой службе решили: не наказывая его телесно, определить в кашевары на солдатский 25-летний срок. Таким образом, он мог рассчитывать на отставку не ранее как на восьмидесятом году жизни.
Старик был словоохотлив и нередко рассказывал о своих похождениях.
— Прожил я, — говорил он, — в бегах век свой не крадучись, а по-божески да по милости общего благодетеля — доброго барина. Жил-был неподалеку отселева этот барин, знатный, богатый и большой охотник до правды, до воли и до войны. Где, как и почему он пристрастился к эвдаким делам, откуда и когда явился в поместье — ничего я этого не знаю. Поместье его было большущее: тянулось на целый уезд, а сам он жил в громадном селе. Село стояло над широкой бурливой рекой, и попасть в него можно было не иначе, как переехавши реку на барском пароме. На ночь паром причаливался к берегу села и держался до утра на привязи. У села и по селу ходили ночью, по наряду, караульщики. Самое село было окружено каменною стеною, точно крепостью. Внутри села тянулся на версту один каменный дом, одноэтажный, со всякими службами. Барин всех принимал, кому худо на свете жилось: кто удирал от дурного помещика, кто от солдатства или кантонистства, а кто из острога — все шли к нему. Всякий такой человек являлся к нему лично, рассказывал ему по совести: откуда, как и для чего убежал, получал от него наставление, как держаться, живучи у него, и уходил с провожатым в контору. Там его записывали в число дворни, отводили комнату в барском же доме, давали одежду, обувь, белье и все такое прочее. С месяц беглый отдыхал, знакомился со всеми, а там его посылали на работу, по его силам и понятиям глядя. Так проходило несколько месяцев, а после выбирай себе дело, какое тебе по нраву. Холостых барин любил женить, девок замуж выдавать, и тем и другим давал от себя приданое, строил избы, переводил их в другие свои имения, пересаживал на оброк, а оброк брал самый пустяшный. У мужиков сам крестил детей, помогал им деньгами, обходился со всеми ласково, дружественно, точно с ровней. Любил он всего больше смельчаков, расторопных да стрелков; с такими людьми он объезжал верхами на лошадях свои поместья и охотился по лесам дремучим. Все


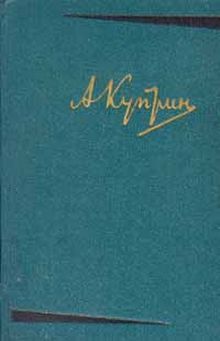
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/46592/46592.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)
