его знали. Не было примера, чтоб он кого-нибудь из беглых выдал, не глядя ни на какие угрозы, ни на какие жалобы господ. Начальства он решительно никакого не боялся. Придет, бывало, становой либо исправник отыскивать какого-нибудь беглого, явится к нему. Он его выслушает, велит напоить-накормить, дать на дорогу за труд: становому — 25 рублей, исправнику — 50 рублей, и проводить его за ворота. Те, знавши его нрав, угостившись на славу, брали деньги, уезжали восвояси, да и докладывали кому там надо, что, мол, такого-то нет. Ну, а ежели да наедет бойкий какой чиновник и не ублаготворится барским положеньем, его по барскому наказу отдирали розгами и вывозили за реку под караулом. Насылали, случалось, иногда и войско, но и оно ворочалось назад ни с чем: барин скорехонько, бывало, вооружит своих смельчаков винтовками, уберет паром, все лодки, и шабаш. Постоит-постоит это войско за рекой али у села, да и вернется восвояси с тем же, с чем и пришло. Таким-то вот манером барин и наводил страх на всех властей много лет сряду, пока его не стало, а с этим случаем и наша сила вдруг лопнула и все мы сгибли. Отлучился раз барин потихоньку в Москву. Начальство это пронюхало, схватило его в дороге да и упрятало куда-то далеко, а к нам — бац! — войско, застигло всех врасплох, и пошла тут такая перепалка, что и небу было жарко. Около месяца перебирали нас по косточкам. Кто успел — убежал, кто трухнул — утопился в реке, а кто сплоховал — тот попался. В числе беглых кантонистов очутился и я. Попал я к барину таким родом: заслышав, что меня требуют в кантонисты, я убег из дома, явился к барину, рассказал ему свое горе и остался у него жить. Мне было в ту пору ровно 18 лет. И вот целый век выжил благополучно, не думал, не гадал, а теперь, на старости лет, попался; да мало того сам попался, так и добро мое, нажитое кровавым потом, сгинуло: в суматохе все дотла раскрали.
XIII
ЖИТЬЕ В ДЕРЕВНЕ, ЛЮБОВЬ И ЕЕ РАЗВЯЗКА
Прошла половина лета, и кантонисты уже собрались в деревню, куда их в эту пору ежегодно выводили на отдых.
Однажды утром, в июле, кантонисты всего заведения стояли на плацу. Перед фронтом прохаживался начальник, желавший обратиться к своим питомцам с напутственною речью.
— В деревне жить смирно, — говорил он, — хозяев ваших уважать! Помогайте им, чем можете, и они станут хорошо вас кормить, прощать провиант; а коли будете озорничать и они потребуют паек — так я вас!
С таким напутствием кантонисты отправились поротно в дорогу пешком верст за сто или за двести от города.
Житью в деревне кантонисты всегда радовались, его ждали со свойственным детям нетерпением. Но с прибытием в деревню их радость значительно уменьшалась: там также надо было вставать в пять и шесть часов утра и ходить ежедневно на фронтовое учение в капральство и на ротный двор. Расстояние между деревнями, где жили кантонисты (человек 10, 15 и до 30 в каждой деревне), и центрами учений простиралось от 5 до 15 верст, а такая ходьба отягощала кантонистов тем более, что ни проливной дождь, ни грязь не освобождали от явки к 7 часам на учение. Кто опаздывал или вовсе не являлся — тот получал за это всегда изрядную поронцу. Взрослых, кроме того, беспрерывно рассылали по деревням с казенными и частными поручениями. Они же обязывались собирать и приводить на учение малолетних и присматривать за ними дома, и им же доставалось за шалости и оплошность последних. Но всего тяжелее для кантонистов бывали в деревнях телесные осмотры, которые проводились два-три раза в неделю в видах предотвращения заразы от мужиков, у которых они жили. Поднимется, бывало, резкий холодный ветер, пойдет крупный частый дождь, а в сарае, с огромными щелями в стенах, с развалившеюся крышею, стоит капральство, раздетое донага. Правящий или ротный командир ходит по фронту, осматривает, ощупывает и разглядывает порознь каждый суставчик. Как дождь ни мочит, как ни бросает от холода в дрожь — не смей ни вздрогнуть, ни глазом моргнуть. Фронт, по словам начальства, был место священное, и потому за невольную дрожь, как за оскорбление этой святыни, неминуемо наказывали. Кроме того, кантонистам во время стоянки в деревнях воспрещалось петь песни на улицах, ходить расстегнувшись, участвовать в детских играх, уходить дальше гумна без спросу.
Крестьяне той местности, где квартировали кантонисты, были преимущественно старообрядцы различных толков, а потому враждебно встречали кантонистов, не принадлежащих к их сектам. Со своей стороны, кантонисты, следуя наставлению начальника уважать хозяев и боясь вооружать последних против себя, изыскивали всевозможные способы сближения со своими хозяевами и бессовестно обманывали их.
Особенно отличался хитростью кантонист Бобков. Бывало, войдет в назначенную ему для житья избу, поклонится.
— Здравствуйте, люди Божьи, — говорит. — Як вам квартировать назначен, так не обижайте ж меня, смиренного раба Божия: я и то в кипятке киплю да и родом из вашего согласия.
— Здравствуй, коль не шутишь, — недоверчиво отвечает старуха, нашептывая молитву и перебирая в руках четки. — А каким ты крестом молишься, ежели нашего согласия?
— Благословенным, бабушка, благословенным молюсь, вот как видишь, а то каким же мне иным крестом молиться?
— Ну, а как евта вещь прозывается? — продолжает она, показывая ему четки.
— Лестовка, бабушка. Покойная моя матушка, царствие ей небесное, завсегда так молилась и меня тому ж учила, да вот в службе-то этой я, почитай, все перезабыл. Да и немудрено: по-нашему-то вон и молиться запрещают…
— Коли, голубчик, велят? Они ведь еретики да смутьяны рода человеческого; так где ж им думать о спасении да о царствии небесном! Звать-то тебя как? — добавила она, помолчав.
— Александром, бабушка, и кличут Бобковым. У меня, бабушка, со вчерашнего вечера и крохи во рту не было. Есть больно хочется. Не дашь ли чего перекусить?
— Наслышаны мы, голубчик Лександра, про вашу-то службу вдоволь: знай сквернословь да пой сатанинские песни, а в брюхе-то пущай себе урчит. Скидывай свою муницию, склади ее вон взад, на лавку, умой у рукомойника руки-те, помолись да и садись за стол. А я тем временем сберу тебе обед: с голодухи-то, поди, не до балясов.
— Истинно так, бабушка. Вот поем, так и язык будет легче ворочаться.
Бобков раздевается, моется, молится по-старообрядчески и начинает обедать, а старуха то и дело подливает и подкладывает ему вкусного съестного как единоверцу. Отобедав, он садится возле старухи,


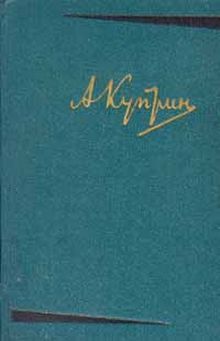
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/46592/46592.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)
