внимательно слушает ее поучения, поддакивая ей, сам рассказывает всевозможные небылицы о претерпенных будто бы им страданиях «за правую веру», и к вечеру становится совершенно своим человеком в избе.
Не успела семья вернуться с поля, как старуха уж оповестила ее о мнимом единоверце.
— А ты, малый, не врешь, будто ты нашего согласия? — строго спрашивает Бобкова старик, глава семьи.
— Чистая это, дедушка, правда!
— Ну и табачища поганого не куришь и не нюхаешь?
— Что ты, дедушка, что ты, Господь с тобой! Это зельем-то дьявольским чтоб я осквернял себя — сохрани и помилуй меня Боже. Ни-ни!
— Коли так, садись с нами ужинать.
Тем опросы о вере и кончались. И Бобков с первого же дня обедает, ужинает вместе со всеми, старуха крестит его на сон грядущий; ночью, когда он разбросается во сне, она укутывает его; нашептывает над ним, сгоняет с него мух; стирает его казенное белье, нашивает ему собственного, дает холста на портянки; из всякого лакомого кушанья старается уделить ему лучшую часть, словом, лелеет и бережет его, как родного. Все остальные члены семьи также любят его, а он за все это отплачивает им посильною работою по хозяйству, смирением, точным исполнением хозяйских обычаев да слушает по воскресеньям, час-другой, как старик читает по складам семейству древнее благочестие. Проходит месяц.
— Не видала ли, бабушка, где моей шинели? — спросил однажды Бобков, собираясь утром на учение.
— Шинели?.. Ах ты, Лексаша, Лексаша! И не грех тебе нас обманывать-то? Не грех тебе сменять праву веру на зелье, на погань?! На том свете ведь за евто каленым железом станут рот-то тебе выжигать!..
— Да где, я тебя спрашиваю, шинель-то? Ведь опоздаю на учение — меня за это выдерут!
— Шинель-то? Да я в огород выбросила твою паскудную ши-нель-то: она вся вон провоняла поганью — табачищем. Не держать же в избе евдакую мерзость: грех, большой грех. Неужто ты, Лексаша, и вправду жрешь это зелье-то?
Но Бобкову вовсе не до ответов, он бросился в огород, с трудом отыскал шинель, надел ее и побежал на учение; а вернувшись, застал старуху в страшной суматохе: она мыла кипятком все вещи, за которые он когда-либо брался руками, все лавки, на которых он сиживал, выжигала калеными каменьями всю глиняную и жестяную посуду, из которой он когда-либо едал. На спрос, что все это значит, старуха принялась его укорять богоотступничеством, ворчала и отплевывалась от него, как от нечистой силы; он божился, уверял ее, что не курит, пахло же от шинели табаком оттого, что правящий, сидя на ней в сарае, курил трубку. Желая задобрить старуху, Бобков рассказал, как за то, что он опоздал через нее на учение, он получил 15 комлей, в удостоверение чего показал даже синие рубцы на теле. Однако старуха ничему не поверила, никаких оправданий и слушать не хотела. Вечером разбирательство повторилось, но перевес остался все-таки на стороне старухи. Вследствие такого решения Бобкову пришлось искупить свой мнимый грех всеобщим к нему охлаждением. Белье, впрочем, мыли ему исправно, кормили, правда, порядочно, но только отдельно от хозяев и из особой посуды, которую завели собственно для него и которую ставили даже в стороне от той, из которой ели хозяева. Всякий его шаг, всякое его движение вызывали укоры и ворчанье со стороны хозяев. Так Бобков и дожил остальной срок своего квартирования в деревне.
Другим кантонистам жилось хуже.
— У меня, Иван Иванович, очень плоха квартира, — жаловался правящему кантонист с сильною протекциею после недельного жительства в деревне. — Всего и живут-то старик да старуха — оба презлющие. Старик — староверский поп. Как пришел я первый раз, так и в избу даже не пустил, а отвел мне угол в хлеву, и я живу вместе с теленком. Кормят прескверно: одну и ту же жиденькую постную похлебку с хлебом ем кажин-ный день. Тебе, говорит хозяин, казна только это и отпускает, ну и лопай как знаешь, а жалеть тебя нечего, потому ты не нашей веры. Перейди, говорит, в нашу веру, хорошо буду кормить, да еще и денег стану давать. Перемените мне, пожалуйста, квартиру, не то я напишу…
— Зачем писать? Писать незачем: дело поправимое, — отвечал правящий. — Эй, Бочков, перейди-ка ты сегодня же жить вместе с Филипповым на его квартиру. Там ты ничуть не прогадаешь: его хозяева богаты, возьмись за них только, и будешь как сыр в масле кататься. Тебе же не привыкать-стать учить этих сиволдаев. Ни в чем не стесняйся: я за все отвечаю.
— Слушаю-с, Иван Иванович, — отозвался Бочков, кантонист лет двадцати, отчаянный буян.
С наступлением сумерек Бочков явился на новую квартиру.
— Тебе чего надо? — спросил хозяин-старик, загораживая Бочкову вход в дверь.
— Пусти наперед в избу, а там и потолкуем.
— Да чего тебе надоть-то? Ежели «штыковую работу» — ен в задней; туда дорога со двора, а не здесь.
— Пусти, тебе говорят, не то так садану, что черти из глаз посыплются.
— Ой ли! Не пужай по-пустому, не из трусливых, а сколь ни хорохорься — в избу не пущу.
— Не пустишь? Так вот же тебе, старый хрыч, ежели добром не унимаешься!.. — Бочков так сильно толкнул старика в грудь, что он свалился на близстоявшую лавку. Бочков вошел в избу, оглядел ее, крикнул Филиппова, очистил с помощью товарища лавку в переднем углу и начал вколачивать гвозди в стену недалеко от образов.
— Ты, «штыковая работа», не трожь, мотри, стену-то, — заговорил очнувшийся старик, бросаясь на Бочкова, — не пущу вешать погань под иконы. Вон ей где место-то! — И старик бросил куртку к порогу.
— Уймись, старый дьявол, пока я тебе все ребра не переломал! Куртка — вещь царская, а не погань. Сам ты погань! Да не токма ты, а и вера твоя погань.
— Ох ты, дьявольское твое наваждение, ох ты, кислая муниция, ох ты… — заревел старик. — Зарежу, вот те Христос, зарежу за святую, за нашу веру. — Он бросился на Бочкова с ножом.
— Режь, режь, — бесстрашно отвечал Бочков, выставляя вперед обе руки.
— Караул! Режут, караул! — закричал Филиппов и бросился на улицу, продолжая кричать.
Старик опомнился и испугался. Бочков, пользуясь его замешательством, мгновенно вышиб из его руки нож, схватил его за грудь, повалил на пол, притиснул и сел на него верхом. Между тем на крик Филиппова выбежали из соседних изб три кантониста и, узнав, в чем дело, пришли на помощь Бочкову. Увидав его невредимым, они тем не менее сочли нужным заголосить по очереди: «Связать его, тащить его к правящему!» Старик лежал точно убитый.
— Живота али


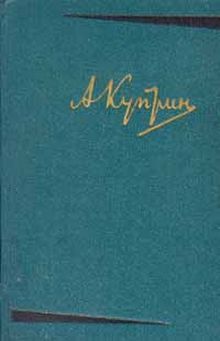
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера [Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/46592/46592.jpg)
![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)
