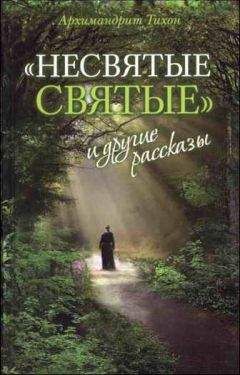«Мне пришлось стать и отцом, и матерью, – говорил он, – чтобы вырастить своих детей».
Дети оценили самопожертвование своего отца и относились к нему с любовью и глубоким почтением.
По воскресеньям он был единственным певчим и чтецом в приходском храме святой Параскевы. Он был из тех, кто посвящал себя богослужению, не требуя платы и не думая о том, как бы сократить службу. Он думал лишь о том, когда начнётся служба, а когда она закончится, ему было неинтересно. Молитва и призывание имени Христа, Богородицы и святых было его постоянным занятием.
– Ты молишься, дядя Георгий?
– Постоянно. Да только не могу достичь умной молитвы, о которой пишется в ваших книгах. Наверное, это скорее дар Божий, чем плод человеческих усилий.
Радуйся, блаженный дядя Георгий! Когда я познакомился с тобой, то увидел в тебе настоящего уроженца Эпира и Румелии[216]. Твоя резкая и терпкая речь была как у горцев Румелии, а благородство, любезность и юмор – как у уроженцев Эпира. Поделись твоей свежестью с нами, больными овцами равнины, и возведи нас к небесной высоте, на которой ты ныне летаешь подобно орлу!
Как уроженец острова я люблю морской берег и его травы, которым солёная морская вода придаёт особый аромат. В тех местах, где на подмытых прибоем скалах удерживалась земля, у нас росли растения со смешными названиями: молочники, свинопасы и палачи. (Последние не зря так назывались: они основательно исцарапывали руки до того, как травы наберётся на одну тарелку.) А кроме травы на этих изъеденных морем скалах вырастали замечательные люди: тихие и спокойные, как море в мае.
Но Богу было угодно, чтобы я кроме моря узнал и горы, да к тому же самые труднопроходимые: в Эвритании[217]. Вместо любимого моря мне долгие годы пришлось смотреть на пропасти и обломки скал, на гору Керамиди, на вершины Розового хребта, на горы Халикион и Арапокефала, которые окружали нас гораздо теснее, чем горы Этолоакарнании. Как часто я думал, находясь посреди Прусийских ущелий: «Какие вы жестокие, высокие горы! Бог дал мне возможность смотреть вдаль, до линии горизонта, а вы своей громадностью делаете меня близоруким, как травоядное животное». Море скрылось от моих глаз, и я стал жить в пустыне, как филин.
Волей-неволей мне пришлось узнать и горцев-овцеводов. С ними я и сам стал горцем. Взгляд этих людей утратил простоту. Они смотрят испытующе, как будто говорят: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?»[218] Прислонив голову к пастушескому посоху, они наклоняют её, как будто хотят расслышать раздающиеся вдали шаги приближающейся неведомой опасности. От них трудно добиться улыбки по той причине, что они вовсе не улыбаются. Годы турецкого владычества, войн, междоусобиц, партизанских восстаний и уединённость породили в их душах неуверенность в завтрашнем дне. В горах, как и в подводном мире, большая рыба поедала меньшую.
Тем более удивительно, что посреди этой мглы и туманов, в горах, где осень выпадала непрекращающимися ливнями, а весна была грустной, как траур молодой вдовы, появлялись мужественные сердца, люди широкой души, поражавшие величием своего благородства. В их присутствии не чувствовалось обычной для горцев агрессии: «А ну-ка, давайте посмотрим, кто кого, неженки равнин и побережья!» Я не стану сравнивать их с прохладным оазисом, так как горы и без них достаточно прохладны, а сравню их лучше с домашним очагом, пылающим в углу комнаты. Одним из таких согревающих душу очагов был человек, о котором я сейчас расскажу.
Он был из села Кониска, которое находится у Трихонидского озера. Впервые мы увиделись с ним в областной администрации в городе Месолонгион. Чтобы познакомиться, нам не потребовалось долгих разговоров: мы уже были наслышаны друг о друге. Глубокое покаяние, с которым этот седобородый старец исповедался тридцатилетнему игумену, говорило о многом. Отец Николай, не получивший почти никакого образования, но необычайно благоговейный, несмотря на семейные проблемы, приносившие ему много горя, стоял на своём посту на краю земли и заботился о том, чтобы забытый всеми народ не оставался без богослужения. На мой вопрос «В каком селе ты служишь?» он ответил:
– В забытом Богом. О нас никто не вспоминает. Я теперь пришёл к номарху[219], чтобы просить его провести к нам дорогу. Понимаешь, для нас, мирских людей, нормальная дорога к большим селениям уже будет каким-то утешением.
– За тридцать пять лет, что ты служишь в Кониске, этом маленьком селе, тебе не хотелось просить о переводе на другой приход, где-нибудь на равнине?
– Отче, я никогда не хотел ни золота, ни серебра, ни дорогой одежды[220], и никогда не думал превратиться в американца. Моё сердце хотело одного: спасения для меня и моей паствы. С того места, где мой Ангел оставил меня в ночь моего рождения, пусть он заберёт меня и на небеса.
Всё это он говорил, склонив голову, как будто предстоял Самому Богу. Мы не ошибёмся, если назовём его отцом Николаем благоговейным.
В другой раз я встретил его на постоялом дворе дяди Харалампия, который местные жители называли Новой Швейцарией. Было видно, что с ним произошло что-то серьёзное. Что бы это могло быть? У него какое-то новое искушение, или это я чем-то его огорчил?
– Что с тобой, отец Николай? Отчего ты такой мрачный? Мне так хотелось, дорогой мой батюшка, увидеть твоё благолепное лицо и порадоваться, а ты вон какой хмурый.
– А ты, отче, разве не слыхал о новом указе?
– О каком?
– Священный Синод Элладской Церкви одобрил закон о рукоположении в священники малограмотных людей, таких, как я. Наша Церковь опять стала такой, как пятьдесят лет назад. Литургия, Евангелие, богослужение: всё это так и будет оставаться запечатанными книгами. Какого Ангела Бог пошлёт, чтобы снять с них печати[221] и дать нашему народу духовную пищу и питьё, чтобы люди стали живыми членами Церкви?! Я читаю народу Евангелие, а когда заканчиваю и поворачиваюсь к алтарю, то говорю: «Господи, сжалься над нами: пошли нам священника-благовестника!»
Я почувствовал стыд от того, что мне не было больно из-за этой церковной проблемы.
Был август 1976 года, когда мы встретились с ним под тенью высокой ели. Теперь я пишу эти строки в 2004 году, но не могу забыть беспокойства отца Николая: «В Церкви больше не должно быть безграмотных. Евангелие ушло из нашей жизни».