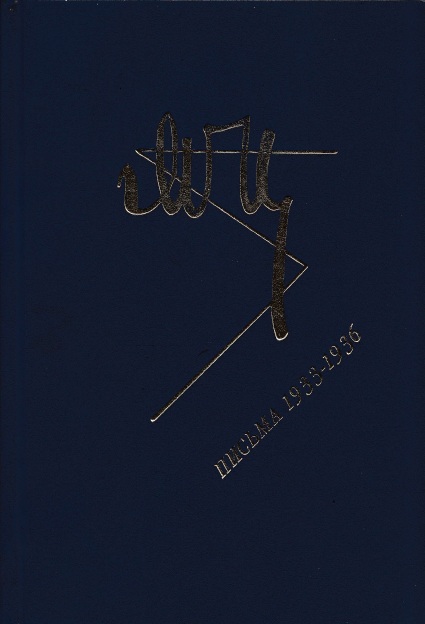что она отлично устроится: она
всем — без исключения — нравится, очень одарена во
всех отношениях: живопись, писание, рукоделие,
всё умеет — и скоро, конечно, будет зарабатывать и тысячу. Но здоровье свое — загубит, а может быть — и душу.
_____
Теперь судите.
Я в ее жизнь больше не вмешиваюсь. Раз — без оборота, то и я без оборота. (Не только внешне, но внутри.) Ведь обычными лекарствами необычный случай — не лечат. Наш с ней случай был необычный и м<ожет> б<ыть> даже — единственный. (У меня есть ее тетради.)
Да и мое материнство к ней — необычайный случай. И, все-таки, я сама. Не берите эту необычайность как похвалу, о чуде ведь и народ говорит: Я — чудо; ни добро, ни худо.
Ведь если мне скажут: — та*к — все, и та*к — всегда, это мне ничего не объяснит, ибо два семилетия (это — серьезнее, чем «пятилетки») было не как все и не как всегда. Случай — из ряду вон, а кончается как все. В этом — тайна. И — «как все» — дурное большинство, ибо есть хорошее, и в хорошем — так не поступают. Какая жесткость! Сменить комнату, все сводить к перевозу вещей. Я, Вера, всю жизнь слыла жесткой, а не ушла же я от них — всю жизнь, хотя, иногда. КАК хотелось! Другой жизни, себя, свободы, себя во весь рост, себя на воле, просто — блаженного утра без всяких обязательств. 1924 г., нет, вру — 1923 г.! Безумная любовь, самая сильная за всю жизнь [900], — зовет, рвусь, но, конечно, остаюсь: ибо — С<ережа> — и Аля, они, семья, — как без меня?! — «Не могу быть счастливой на чужих костях» [901] — это было мое последнее слово. Вера, я не жалею. Это была — я. Я иначе — просто не могла. (Того любила — безумно.) Я 14 лет, читая Анну Каренину, заведомо знала, что никогда не брошу «Сережу». Любить Вронского [902] и остаться с «Сережей». Ибо не-любить — нельзя, и я это тоже знала, особенно о себе. Но семья в моей жизни была такая заведомость, что просто и на весы никогда не ложилась. А взять Алю и жить с другим — в этом, для меня, было такое безобразие, что я бы руки не подала тому, кто бы мне это предложил.
Я это Вам рассказываю к тому, чтобы Вы видели, как эта Аля мне дорого далась (Аля и С<ережа>). Я всю жизнь рвалась от них — и даже не к другим, а к себе, в себя, в свое трехпрудное девическое одиночество — такое короткое! И, все-таки, — чтобы мочь любить, кого хочу! Может быть даже — всех. (Из этого бы все равно ничего не вышло, но я говорю — мочь, внутри себя — мочь.) Но мне был дан в колыбель ужасный дар — совести: неможе*ние чужого страдания.
Может быть (дура я была!) они без меня были бы счастливы: куда счастливее чем со мной! Сейчас это говорю — наверное. Но кто бы меня — тогда убедил?! Я так была уверена (они же уверили!) в своей незаменимости: что без меня — умрут.
А теперь я для них, особенно для С<ережи>, ибо Аля уже стряхнула — ноша, Божье наказание. Жизнь ведь совсем врозь. Мур? Отвечу уже поставленным знаком вопроса. Ничего не знаю. Все они хотят жить: действовать, общаться, «строить жизнь» — хотя бы собственную (точно это — кубики! точно та*к — строится! Жизнь должна возникнуть изнутри — fatalement [903] — т. е. быть деревом, а не домом. И как я в этом — и в этом — одинока!).
Вера, мне тоже было 20 лет, мне даже было 16 лет, когда я впервые и одна была в Париже. Я не привезла ни одной шляпы, но привезла: настоящий автограф Наполеона (в Революцию — украли знакомые) и настоящий севрский бюст Римского Короля. И пуд книг — вместо пуда платья. И страшную тоску внутри, что какая-то учительница в Alliance Fran*aise [904] меня мало любила. Вот мой Париж — на полной свободе. У меня не было «подружек». Когда девушки, пихаясь локтями, хихикали — я вставала и уходила.
_____
Вера, такой эпизод (только что). С<ережа> и Аля запираются от меня в кухне и пригашенными голосами — беседуют (устраивают ее судьбу). Слышу: …«и тогда, м<ожет> б<ыть>, наладятся твои отношения с матерью». Я: — Не наладятся. Аля: — А «мать» слушает. Я: — Ты так смеешь обо мне говорить? Беря мать в кавычки? — Что Вы тут лингвистику разводите: конечно мать, а не отец. (Нужно было слышать это «мать» — издевательски, торжествующе.) Я — С<ереже>: — Ну, теперь слышали? Что же Вы чувствуете, когда такое слышите? С<ережа> — Ни — че — го.
(Думаю, что в нем бессознательная ненависть ко мне, как к помехе — его новой жизни в ее окончательной форме [905]. Хотя я давно говорю: — Хоть завтра. Я — не держу.)
Да, он при Але говорит, что я — живая А<лександра> А<лександровна> Иловайская, что оттого-то я так хорошо ее и написала.
Нет, не живая Иловайская, а живая — моя мать. Чем обнять (как все женщины!) на оскорбление — я — руки по швам, а то и за спину: чтобы не убить. А оскорбляют меня, Вера, в доме ежедневно и -часно. — Истеричка. Примите валерьянки. Вам нужно больше спать, а то Вы не в себе (NB! когда я до 1 ч<аса> еженощно жду Алю — из гостей, и потом, конечно, не сразу засыпаю, не раньше 2 ч<асов>, а встаю в 7 ч<асов>, из-за Муриной школы. Ходасевич мне даже подарил ушные затычки, но как-то боюсь: жутко, — так и лежат, розовые на черном подносе, рядом с кроватью.) Аля вышла в С<ережин>ых сестер, к<отор>ые меня ненавидели и загубили мою вторую дочь, Ирину (не было трех лет) [906], т. е. не взяв к себе на месяц, пока я устроюсь, обрекли ее на голодную смерть в приюте. — А как любили детей! († 2-го февраля, в Сретение. 1920 г., пробыв в приюте около двух месяцев.) А сестры служили на ж<елезной> д<ороге>, и были отлично устроены и у них было всё, но оне думали, что С<ережа> убит в Армии.
— Чудный день, Вера — птицы и солнце. Вечером еду с Муром в дом, где будет какая-то дама, к<отор>ая м<ожет> б<ыть> устроит мою французскую рукопись [907]. Были бы деньги —