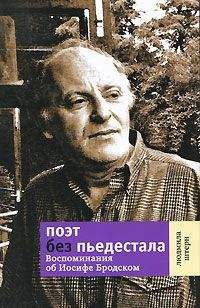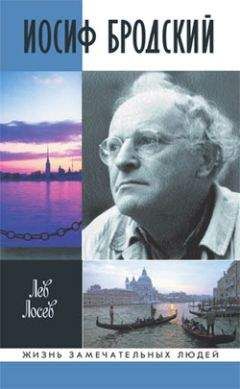А подлинные гении, аватары, — Чудаков, Губанов, Красовицкий, даже Бродский — в кремлевский сортир не вписались! — и власть их изгнала или растоптала, а стихи оставила — „на потом!“. „Прости, железная держава, что притворялась золотой!“ Бродскому удавалось скрыть эзотерический вызов под вполне пристойным католицизмом, потому и выпала Нобелевка. Думаю, он втайне страдал от невозможности прыжка радикального, апофатического!»
В каком-то смысле я согласен с Осетинским: Бродскому удавалось скрывать свой эзотеричный лик Вечного жида, потому и получил Нобелевку. Ведь дело не в еврействе, дело в эзотеричности этого неполиткорректного образа… По сути Вечный жид — это мировой радикально неполиткорректный образ, чуждый и России, и Европе, и Америке, и Израилю…
Этот лик и описал Иосиф Бродский в своей «Пятой годовщине», написанной к пятилетию его эмиграции:
На то она судьба, чтоб понимать на всяком
наречьи. Предо мной — пространство в чистом виде.
В нем места нет столпу, фонтану, пирамиде.
В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.
Это уже не американское пространство, не европейское или еще какое-нибудь, в нем нет места никакой нации и никакой державе. Как контраст можно вспомнить его же тоже эмигрантское, но совсем иное по смыслу и звучанию стихотворение, где он пытается стать сыном Америки:
Я, пасынок державы дикой
С разбитой мордой,
другой, не менее великой,
приемыш гордый…
Удавалось ему стать подлинным американцем, но редко. Все-таки чаще всего в поздний его период побеждало странничество. Нет ни русских пасынков, ни американских приемышей, есть осознанно антиэстетическое, антинациональное, неприлично болезненное осознание «на языке человека, который убыл…». Он искренне разоблачает сам себя и свою немощную дряхлость и ненужность: «Могу прибавить, что теперь на воре, / уже не шапка — лысина горит…»
Так и будет появляться в разных странах эта странствующая поэзия Иосифа Бродского. И вновь будет появляться нам странный герой, и это явное самоощущение поэта Иосифа Бродского:
И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.
Все-таки не случайно Иосиф Бродский любил китайские ресторанчики. Именно там и дождался он своей Нобелевской премии в 1987 году. Конечно же, он знал, что является одним из трех-четырех фаворитов премии. Готовился к ней, мечтал о ней. Когда-то в гостях у Лосевых он написал шуточное двустишие по-французски:
Prix Nobel?
Oui, ma belle, —
что означает: «Нобелевская премия? / Да, моя красавица».
Уже с 1980 года его имя фигурировало в списке вероятных кандидатов, так что у мировой общественности присуждение ему Нобелевской премии особого удивления не вызвало. Но момент неожиданности всегда оставался.
В ожидании возможного решения Иосиф Бродский, прилетев из Нью-Йорка, остановился в Лондоне, как обычно, у своих давних друзей, известного пианиста Альфреда Бренделя и его жены Рене, в симпатичном местечке Хэмпстед, дачном пригороде британской столицы. Хэмпстед облюбовали писатели и художники, артисты и музыканты. Здесь жили Ромни, Стивенсон, Голсуорси, Грэм Грин… Поблизости — квартиры-музеи поэта Китса и Зигмунда Фрейда, здесь когда-то жила балерина Тамара Карсавина и находится знаменитый дом Анны Павловой. Рядом с Грэмом Грином жил и автор шпионских книг Джон Ле Карре — литературный псевдоним, под которым приобрел мировую известность Дэвид Джон Мур Корнуэлл. Ле Карре хорошо знал Иосифа Бродского, и в этот день, 22 октября 1987 года, они решили вместе пообедать в любимом китайском ресторанчике.
Джон Ле Карре позже рассказывал Валентине Полухиной:
«Когда я позвал Иосифа на ланч, я думаю, он принял приглашение по двум причинам: во-первых, у Рене Брендель не принято было пить, во всяком случае не столько, сколько ему хотелось бы, а во-вторых, конечно, ему надо было как-то убить время в ожидании новостей. У меня-то об этом не было ни малейшего представления. Я просто-напросто не помнил, что это был как раз момент присуждения Нобелевских премий. Я не люблю литературу в ее общественных проявлениях, литература как индустрия мне противна. И тут Рене Брендель появилась в дверях. Она крупная немка, высокая, все еще говорит с легким немецким акцентом, весь авторитет и известность ее мужа как бы перешли к ней, и она говорит: „Иосиф, тебе нужно идти домой“. А он говорит: „Зачем?“ К этому времени он уже выпил два или три больших виски (большой виски — 62 грамма. — В. Б.). А она говорит: „Тебе присудили премию“. Он говорит: „Какую премию?“ А она говорит: „Нобелевскую премию по литературе“. Я сказал: „Официант! Бутылку шампанского!“ Так что она присела и согласилась на бутылку шампанского. Я у нее тогда спрашиваю: „Вы откуда узнали?“ Она говорит: „Шведское национальное телевидение подстерегает Иосифа возле нашего дома“.
Оставаясь в этот момент единственным трезвомыслящим человеком, я спрашиваю: „Кто вам сказал, почему вы уверены?“ Она говорит: „Все шведы говорят“. Я говорю: „Ну, знаете, кандидатов-то три или четыре, так что шведы, может, у каждой двери караулят, нам надо поточнее разузнать, прежде чем мы сможем спокойно выпить шампанского“. А тогда как раз издатель Иосифа, Роджер Страус, был в Лондоне, так что Джейн позвонила ему в гостиницу, и он подтвердил, что да, пришло сообщение из Стокгольма о том, что премия присуждена Иосифу. Итак, мы выпили шампанского. Иосиф шампанского не любил, согласился символически, ему хотелось еще виски, но Рене сказала, что ему нужно идти домой, и мы пошли… Выглядел он совершенно несчастным. Так что я ему сказал: „Иосиф, если не сейчас, то когда же? В какой-то момент можно и порадоваться жизни“. Он пробормотал: „Ага, ага…“ Когда мы вышли на улицу, он по-русски крепко обнял меня и произнес замечательную фразу. Он сказал: „Итак, начинается год трепотни“. Это было великолепно. И потом он отправился приниматься за свои дела. Конечно же, была у Иосифа и другая сторона — он был выдающимся профессионалом. Умел оказывать давление на кого надо и, я уверен, делал это… Я познакомился с ним в доме Рене Брендель, но он у них тогда не останавливался, а снимал что-то под горкой в Саут Энд Грин, и после ужина у Рене (мы сильно выпили, но были в очень хорошем настроении) мы дошли до его дома и пили там уже вдвоем. У него там была впечатляющая коллекция виски. Это было еще до того, как я побывал в России. После этого мы встречались еще пять-шесть раз. Я чувствовал, что ему приятно со мной, а мне было приятно с ним…»
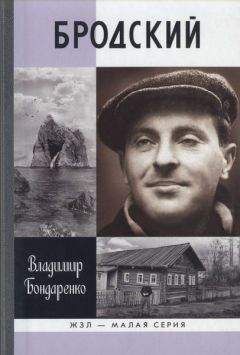

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)