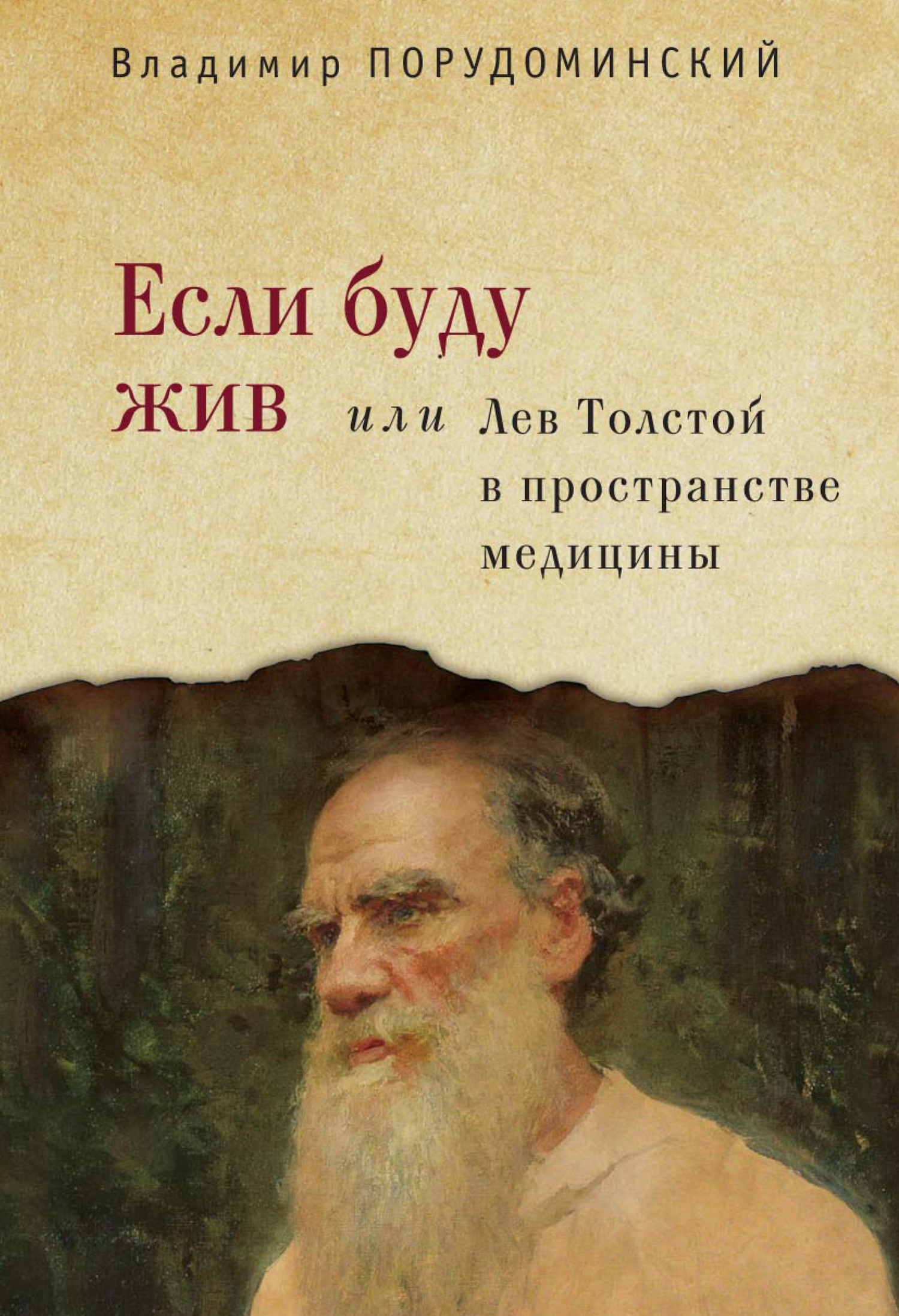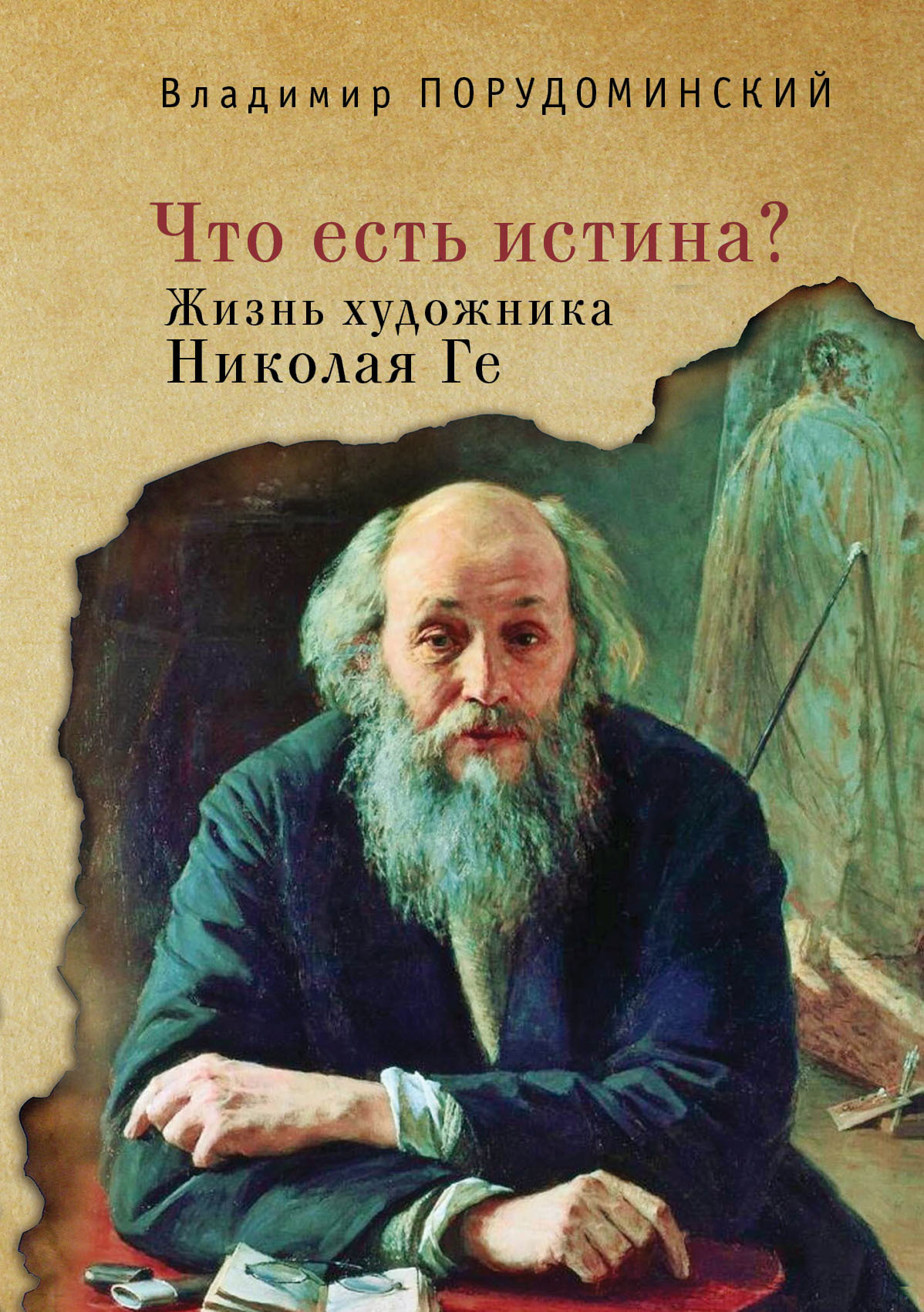видимо, известно Толстому по литературе. Доктор Елпатьевский, «русский литератор с головы до ног», по характеристике Горького, выступает в печати как прозаик и публицист. Помимо рассказов, в которых широко и правдиво является российская жизнь, читатели ценят его «Очерки Сибири», представленные в них образы «гонимой России». Сибирь Сергей Яковлевич знает не понаслышке: у него, как участника революционного движения, за плечами арест, ссылки; среди прочих отдаленных мест – в Благовещенск и в Енисейскую губернию. Всё это, конечно, не может не привлекать интереса Толстого.
О наружности Льва Николаевича мы уже подробно говорили, но здесь еще раз вернемся к ее описанию, – трудно удержаться: очень уж хорошо, выразительно рассказывает доктор Елпатьевский о первом, внешнем впечатлении от своего именитого пациента. «Как ни хорошо знал я Толстого по портретам, лицо его поразило меня. У него были изумительные глаза, острые, пронзительные… Глубоко посаженные, смотревшие из-под больших лобных дуг, они как-то сразу охватывали всего человека – и именно пронизывали его. Они были суровые и немножко насмешливые, и все лицо с косматыми бровями и глубокими морщинами, избороздившими большой лоб, было строгое и суровое. Весь он, с широкими сутуловатыми плечами, с большими, длинными руками, казался крупным, массивным, – крупнее, чем он был в действительности. Но больше всего поразил меня глубоко крестьянский облик его, – и сутуловатые плечи, и большие руки, словно всю жизнь тяжко работавшие, и мужицкая седая борода, не по-графски обряженная, – типичный облик крупного и костистого старика, великорусского крестьянина – властного и сурового».
Лев Николаевич с первой же встречи с Елпатьевским очень разговорчив; когда остаются один на один, расспрашивает, какие книги в ранней юности оказали на него наибольшее влияние, радуется, когда среди названных слышит имя Диккенса («И на вас тоже Диккенс?»).
Елпатьевский вспоминает: в «черные дни для Льва Николаевича, когда в продолжение двух-трех недель смерть неотступно реяла над его кроватью», он «безропотно переносил все то, что мы назначали ему: и компрессы, и мушки, и впрыскивания под кожу, и лекарства».
«Мне кажется, – передает Сергей Яковлевич свое любопытное наблюдение, – что и отношение к медицине у него было, так сказать, крестьянское <наблюдение не умозрительное: как врач Елпатьевский много практиковал в провинции, “в глубинке”>. Он так же, как крестьяне, признавал только серьезное лечение, действенное, очевидное, показательное. Он сколько угодно позволял себя выстукивать и выслушивать, хотя ему было тяжело и с помощью других держать свое тело на весу, охотно измерял температуру, охотно ставил спиртовые компрессы. В особенности, кажется, уважительно относился он к мушкам <пластырь, сильно раздражающий кожу, наподобие горчичника>, и, сколько мы ни терзали его, он никогда против мушек не протестовал, – и мне думается, не только потому, что мушки всегда сказывались значительным эффектом и улучшали его состояние, а и потому, что мушки вообще “серьезное” средство, которое и у крестьян в большом почете. Но он глубоко презирал всякие “микстуры”…»
За все время лечения у Елпатьевского лишь одно-единственное недоразумение с пациентом: крайне слабый, изнемогавший от бессонницы, одышки и кашля, Лев Николаевич вдруг заупрямился и нипочем не хотел проглотить очередную ложку дигиталиса <настойка наперстянки – улучшает работу сердца>. Недоразумение разрешилось деликатной, но строгой фразой Елпатьевского: «Лев Николаевич, помогите нам лечить вас и не делайте моего пребывания здесь излишним».
Александра Львовна, младшая дочь Толстого, пишет про местных докторов: «Мы смотрели на них как на спасителей, мы ждали их, мы надоедали им своими бесконечными вопросами. А мать тревожилась: «Но что ж мы для них сделаем, ведь это ужасно. Никто не хочет брать денег».
Необыкновенность обыкновенного
Дневник Софьи Андреевны полнится заботой о здоровье мужа, тревогой за него и – обидой, что мало ценит ее заботы, укорами, что не желает подчиняться предписаниям врачей, что недостаточно благодарен им. Софья Андреевна включает докторов в систему своих отношений с мужем. Но у них, у докторов, в ходе лечения Льва Николаевича, при постоянном общении – днем и ночью они, сменяя друг друга, не отходят от его кровати – возникает собственная система отношений с ним. В их представлении создается иной образ больного Толстого, чем предполагает Софья Андреевна.
Об этом хорошо у Елпатьевского: с каждой встречей все более вставал и вырисовывался перед ним подлинный Толстой в его огромности, сложности и необыкновенности. «Именно необыкновенности… Я говорю не об умственном голоде Толстого и его вечно несытой совести, не о его вечных исканиях – я говорю об огромности его, как человека, о необыкновенности его индивидуальных обыкновенных человеческих черт».
Там, где для жены и некоторых из близких на первый план выступает «обыкновенный» Лев Николаевич, с его противоречиями, неудобством суждений и поступков, слабостями, перед докторами (можем судить об этом не по одного Елпатьевского воспоминаниям) является поражающая их необыкновенность обыкновенного в нем.
Беседуя с ним днем, и не только на медицинские темы, проводя возле него долгие бессонные ночи, они оказываются в мире его сокровенных мыслей, искренних признаний. Отсюда это впечатление вечных исканий, вечно несытой совести. «За всю мою долгую медицинскую жизнь, – читаем у Елпатьевского, – я не запомню ни одного случая, где бы так думали в то самое время, как подходила смерть, думали не о детях, не об неустроенных делах, не о неснятых с совести камнях, а об общем, о дальнем, о том, что не касалось личной жизни…»
Доктор Волков рассказывает, что Льва Николаевича, всегда очень смущенного заботами врачей о его физиологических отправлениях, «постоянно мучила разница в положении больного – его и больного мужика, который должен и в самой тяжкой болезни выходить оправляться зимой куда-нибудь под клеть. Я раз десять слышал от него эти сокрушения о том, как плохо хворать мужику». Свидетельницей одного из таких разговоров оказалась Софья Андреевна: «Вчера спросил у доктора Волкова, как лечат в простонародье таких стариков, как он, впрыскивают ли им камфару, кто их поднимает, чем питают?» Здесь вместе – и общая жизнь и вечно несытая совесть.
Домашние и близкие, по мере сил, часто – сверх всяких сил, помогают врачам. «Нанимать кого-нибудь для ухода нечего было и думать, так как посторонний человек крайне стеснял бы больного и заставлял бы его постоянно конфузиться, принимая его услуги, – рассказывает один из близких знакомых семьи, находившийся в Гаспре. – Мы все обратились в сиделок и сестер милосердия и распределили между собою денное и ночное дежурство».
Доктора́, отвоевывающие у смерти своего пациента, сопоставляют его поведение не с собственными представлениями о том, как должен был бы вести себя в данном случае Лев Толстой, а (читаем опять же у Елпатьевского) с прошедшими через их руки