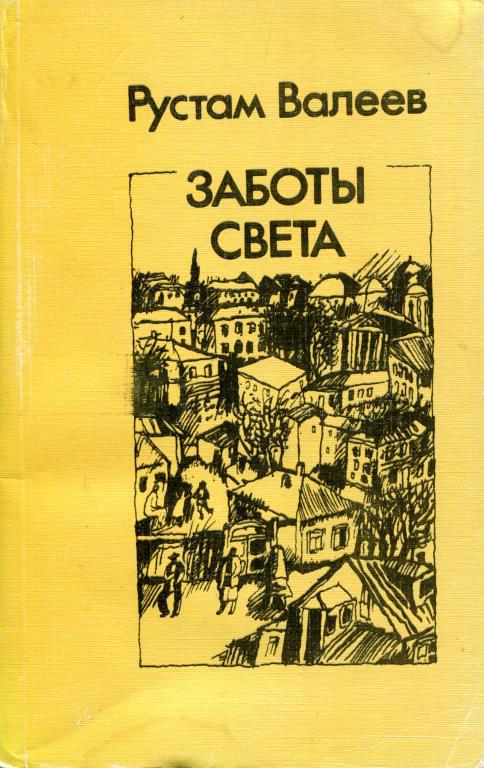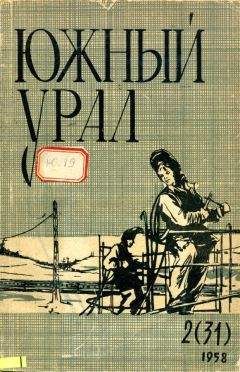бежать. — Крепко, поспешно стиснул он руку собеседнику и пошагал, ловко обгоняя прохожих.
Оставшись один, Габдулла присел на скамейку в скверике перед Азимовской мечетью и стал думать о том странном, что сводит и разводит людей. О том, что мысль человека, близкая тебе, приближает и самого человека, и это радостно. Но это и мучительно! Потому что хочешь узнать его жизнь, его судьбу, а не знаешь пока еще. У Ямашева недавно умер отец — он не знал его отца. У него жена, старше Хусаина, у них нет детей; родичи, люди очень богатые, не понимают его, не хотят понимать. И во всем этом, известном тебе только поверху, так много грустного, и тревожного, и мучительного. Почему? Да потому, что каким-то заклятьем сужден тебе непокой и постоянное желание каждый промельк чужого лица, чужих забот, горя, всего, что есть в чужой-судьбе, сделать своим, все это знать, а если не узнать, то чувствованием понять и приблизить к себе.
В последнее время он чувствовал так сильно, так больно и радостно всю полноту жизни, все переменчивое и противоречивое в ней, но главное, что все это есть и е г о жизнь, и давняя мысль, что он напишет когда-нибудь роман в стихах, волновала его, как никогда прежде. Да, он сможет, он напишет широкую картину нравов, праздников труда и горького его счастья, сумасшествий, как вот с этим Карахметом, которое само по себе могло бы стать эпической сказкой — веселой, насмешливой и хлесткой. Будут в романе и город, и поля Кырлая, и люди разных сословий, и юноша поэт, и мечтательная, чистая девушка, и Сенной базар, и отрубленная голова.
…В какой-то миг он почувствовал, как шевельнулось в нем н а ч а л о, в зародышевом, мягком тепле, и он познал надежду и боль, как если бы думал о судьбе ребенка. Он старался еще удержать себя от поспешности, боясь ошибиться, но уже на следующий день ничего с собой не мог поделать — уже писал, писал, отбрасывая листок за листком и хватая, придавливая запястьем новый. Не вдруг сообразил он, что пишет задуманное как бы с середины. В его ушах раздавался гул Сенного базара: скрипенье телег, ржание лошадей и рев быков, перекрестные крики торговца и покупателя, смех удачника и вопль обманутого. Чу, возгласы! Дивные дела: катится, подскакивая на булыжинах мостовой, чалмоносная голова; подбежала покатом прямо к ногам почтеннейших граждан базара и молвила: «Богом послано мне испытание, не ведаю почему! Девяносто раз ходил я в Мекку поклониться священной Каабе. Был гласным в Государственной думе. Торговал с умом, беря за московский товар девять гривен с рубля. Прилежно следовал предписаниям аль-Корана, и было у меня пятнадцать жен. В милые заведения крался я по ночам, но днем хранил благочестие. На закате лет женился я в шестнадцатый раз и породил сына, отрадой служил он моей старости. А теперь нет у меня ни сына, ни жены — кровожадный див схватил обоих и скрылся в глубоком колодце. О мусульмане, ежели не поможете мне в горе моем, в день светопреставления взыщу я с вас!» — вот какие слова говорила голова и плакала, и слезы с шипеньем падали на мостовую.
Граждане Сенного базара стали держать совет:
— Белый царь, не пришлет ли он своих солдат в помощь несчастному?
— Может, Максуди, член Государственной думы, защитит несчастного? Ведь как-никак за него мы клали белые шары.
— Или позвать ишана с кнутом? Премного одаривали мы святого отца.
Ах, нет! Никто из них не защитит бедного мусульманина, разве что Карахмет… И послали за богатырем. Вот силится богатырь поднять с земли злосчастную голову, да не тут-то было: в ней, голове этой, фанатизма тысячи пудов, и ослиного упрямства, и невежества, и зазнайства. Но силач, хотя и сконфужен чуток, решает побороть дива. Садится в трамвай и едет, а следом катится голова. И останавливается около озера Кабан — там, в глубине вод, скрыт колодец, на дне же колодца царство дива.
Кому из смертных случалось видеть дива? Верно, он очень похож на Гайнана Ваиси, главаря секты, обосновавшейся в Новотатарской слободе. Мощная туша, маленькая, однако ротастая голова, на макушке дыбится красно-огненная феска, усищи свисают на грудь, — словом, самый что ни на есть див. Да, а перед входом в дьявольское жилище прибита крашеная дощечка с надписью: «Верная аллаху партия благочестивого Гайнана».
…Закончив историю Нового Кисекбаша, он испытал чувство завершенности, приятной и страшной пустоты в душе. Он долго сидел печально-неподвижный, совершенно не владея мыслями, да и не было никаких мыслей. Потом стал шагать по комнате — сперва как больной, затем все более легким, веселым шагом, смеясь и радуясь. Но, обрывая смех, спрашивал в растерянности: «А как же с т е м, о чем думалось-мечталось… когда напишу?» И с привычной уже грустью и надеждой: когда-нибудь, ежели бог даст мне силы!
Фатих, прочитав о Новом Кисекбаше, сказал:
— Ты написал сатиру, поздравляю. — И глянул так мягко, так приласкивая. — Когда-нибудь, дорогой Габдулла, потомки скажут: тяжкие времена доставались нашим дедам, однако здорово же они могли смеяться над своими пороками.
— Ну, будут тебе потомки разыскивать наши фельетоны!
— Говори — сатиру, а хочешь — называй поэмой. И вот что… в зале Купеческого собрания затеваем литературный вечер в пользу газеты. Прочитаешь там.
Читать перед публикой он не любил, но речь шла о любимой газете, и он согласился.
…Сбежав со сцены, он потихоньку стал пробираться к выходным дверям, потому что видел: Фатих легонько вскинул ладонь и шевельнул, подзывая. Но там, боже мой, окружили его какие-то дамы, девицы. Он сделал вид, что не заметил Фатиха, и, не дожидаясь попутчиков, уехал один.
Наутро встал раньше обычного, попил в номере чаю и отправился в редакцию. Никого еще не было, на столе лежали только что принесенные из типографии листы корректуры. Он сел читать. Прошел, наверное, час, он все прочитал — сидел теперь и курил. На лестнице послышались голоса, дверь открылась, и Бурган Шараф, оставаясь за порогом, кого-то звал: «Проходите, прошу вас. Он здесь». Вошли две девушки, совсем еще юные, пунцовые от смущения, и Бурган, такой уж статный и петушисто-галантный, как юнкер.
— Позвольте представить… позвольте, позвольте!
Габдулла встал, приглушенно молвил: «Здравствуйте». Почему-то особенно смутила его одна из девушек, мягкий, сдержанный блеск ее зеленовато-серых глаз. На ней было простое, белое батистовое платье, батистовый же легкий платок, завязанный на затылке и хорошо, полно открывающий нежное пухловатое лицо. «Зейтуна», — повторил он про себя имя девушки и встрепенулся: не сказалось ли вслух?
Бурган (кстати пришлись его галантность и