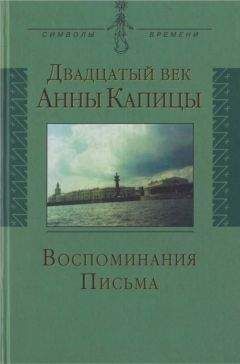Так они собирались и тогда, когда был жив замечательный Сергей Ермолинский, так они собирались и в те десять лет, пока она жила без него.
Уже будучи немолодым человеком, она вдруг написала блестящую книгу «Я помню», которую издали и у нас и за рубежом. Татьяну Луговскую приняли в Союз писателей. Это была книга о ее отце, Александре Федоровиче Луговском, инспекторе Первой московской гимназии, об их семье.
Мы, читая ее книгу, вдруг припомнили себе, что не первыми живем на свете, что Москва стоит почти девятьсот лет, что каждое поколение что-то оставляло нам (пока не пришла пора все уничтожить «до основанья, а затем…»).
Вот мы и живем в эти времена, которые «затем». Мы, нынешние московские, собираем крохи.
Отдельным образом скажу, Александр Федорович Луговской был легендой и нашей семьи, потому что мой дедушка, профессор лингвистики Николай Федорович Яковлев, часто говорил о нем, как о своем любимом учителе в гимназии.
Татьяна Александровна готовила фотографии своего отца к печати и выяснила, кто на них снят. На одной был изображен Луговской с тремя гимназистами.
Это фото увидела наша общая приятельница, сценарист Наташа Рязанцева, которой я когда-то обмолвилась, что фамилия Луговских мне знакома по семейным рассказам. Она позвонила мне и сказала: «Там на снимке, по-моему, очень похожий на Кирилла молодой человек» (Кирилл — это мой старший сын).
Я приехала и увидела на фотографии своего деда Колю в гимназической форме.
— По-моему, его не так звали, — сказала Татьяна Александровна очень любезно, — его звали Яша, я помню. Он меня подкидывал на руках, я его помню, Яшечка.
— Он ведь был Яковлев, и Яша, наверное, было его прозвище, — ответила я. — Меня в детстве тоже звали Якуткой, я была Люся Яковлева. Дед был огромный, калоши сорок шестого размера. Мои две ноги влезали в одну его калошу, я помню.
— Он был огромный, да, — подтвердила Татьяна Александровна.
Копию этой фотографии она мне подарила, и мы все удивляемся, до чего Кирилл похож на своего прадеда.
Наша жизнь стала богаче на много десятилетий назад — как если бы не было этих страшных времен, голода, разрухи, войн, лагерей, психушек, ссылок, забвения…
Татьяна Александровна умерла ровно через десять лет и один день после Сергея Александровича — собрала гостей, как обычно, слегла и в ту же ночь ушла, как будто решила.
Бывает такая сила воли.
В своей записной книжке многолетней давности (еще были живы оба, и Сергей Ермолинский, и Татьяна Луговская, и оба: тяжело болели) я нашла стихи той поры. Тогда мне вдруг представилось, что они не смогут расстаться. Мне представилось, что если один умрет, то второй умрет днем позже:
Хорошо было тем старикам,
Что на солнышке грелись.
Они умерли с разницей в день,
Словно спелись.
Татьяна Александровна, мужественная женщина, прожила десять лет после смерти любимого. Она еще надеялась закончить его работу над воспоминаниями, а также думала написать книгу о старости, такой был план.
Она явно хотела умереть в его десятую годовщину. Почти получилось.
Они умерли с разницей в день, 18 и 19 февраля.
В изостудию Центрального Дома пионеров, что был в Москве в переулке Стопани, я поступил в 1945 году в группу, преподавателем которой была Татьяна Александровна Луговская. Тогда я не мог и представить себе, какую огромную роль в моей жизни сыграет эта удивительная женщина.
Но я хорошо помню свое первое впечатление от встречи с ней. Высокая, стройная, уверенная в себе, элегантная, она особенно ярко выделялась на нашем фоне — худых, плохо одетых подростков послевоенных лет. Только значительно позже я понял, что эта ее элегантность и подтянутость происходили не от благополучной жизни и богатства, которых не было, а от самодисциплины, от того, что всегда называлось «хорошим воспитанием» и усилий воли, ей свойственным.
Она казалась нам человеком из другого мира, о котором мы имели самое смутное представление. Художница, сестра известного поэта, она была знакома со многими выдающимися людьми — писателями, актерами, музыкантами, художниками, поэтами, даже с самим Маяковским, которым мы тогда бредили. Их фамилии иногда проскальзывали в ее разговорах с нами. И мы еще больше проникались восхищением и уважением. Все это создавало в нашем сознании вокруг нее мир… таинственный и недоступный нам. Мы любили ее.
Обходя нас на занятиях, она по несколько раз присаживалась к каждому из нас и давала советы, как продолжить работу дальше, что поправить и как это сделать. Каждый раз в конце занятий наши работы раскладывались на полу для всеобщего обсуждения. Ее критика, как правило, была беспощадной и в то же время уважительной. Она высоко держала планку своей требовательности.
В то далекое время занятия в студии проходили в светлое время дня, два раза в неделю и продолжались 2–3 часа. Все остальное время для меня проходило в ожидании этих встреч.
Обычно Татьяна Александровна ставила нам натюрморт, независимо от того, был ли это урок рисования или живописи. Почему-то обязательным элементом этого натюрморта, как скрипка и петушок у Марка Шагала, было чучело вороны. У меня до сих пор сохранилось несколько работ с присутствием этой странной птицы.
Занятия часто сопровождались беседами о художниках с разбором отдельных картин и, главное, о цвете в живописи. Она старалась нам объяснить, что живопись — это торжество света, что не надо писать локальным цветом, что цвет отдельных элементов наших работ формируется в зависимости от окружающих предметов и среды, которой окружен или в которую погружен объект живописи. Она настойчиво прививала нам понятие вкуса в искусстве.
После окончания школы я поступил в строительный институт, у меня началась совсем другая жизнь. Но раз в год, после каникул или отпуска, я стал появляться у Татьяны Александровны в Староконюшенном переулке, где она тогда жила. А началось это с телефонного разговора, когда я, приехав летом с практики, проходившей на Усть-Каменогорской ГЭС, где я немного писал, рассказал об этом Татьяне Александровне, а она вдруг твердо почти приказала: «Приезжай и покажи мне».
Я не видел ее, наверное, года полтора и очень волновался, приближаясь к ее дому. Татьяна Александровна жила в квартире на первом этаже, которая когда-то была занята целиком ее родственниками, а со временем превратилась в типичную московскую «коммуналку». В те дни она занимала часть перегороженной комнаты под названием «большая комната». В меньшей проживал ее бывший муж Григорий Павлович Широков.