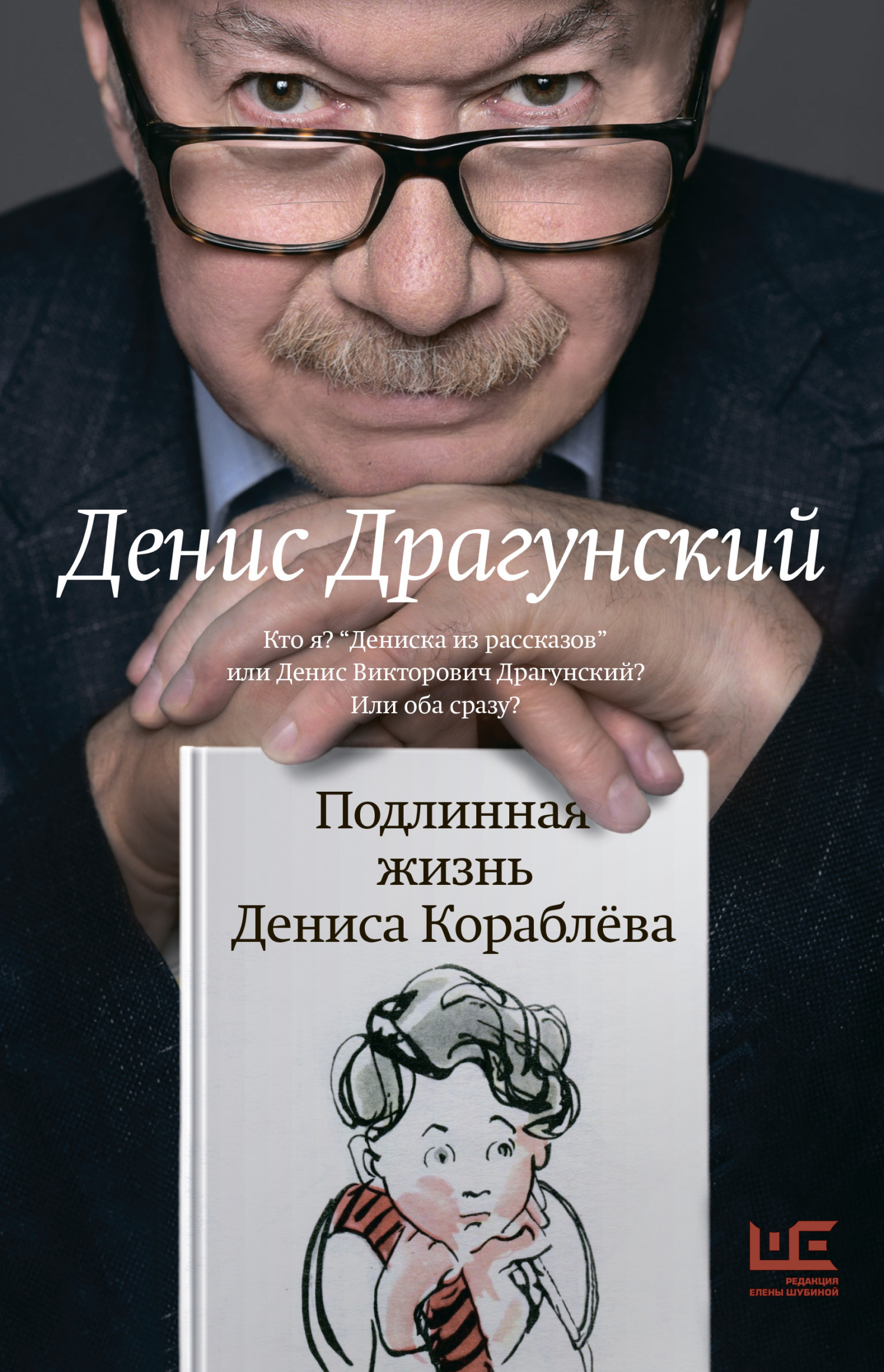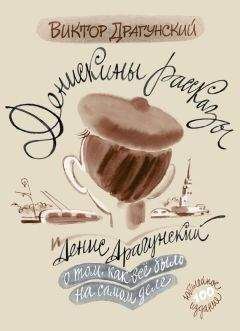в небрежный пучок на макушке. И косящий наружу глаз. Казалось, что она не на тебя смотрит, а на кого-то, кто сбоку подходит: колдовство.
Однажды утром мы случайно встретились на дачной аллее. Лялька спросила меня: «Привет, а ты читал новый романа Булгакова? Про Иисуса Христа, дьявола, писателя и красивую женщину?» При словах «красивая женщина» она вытащила шпильку из пучка, тряхнула головой, темно-золотые пряди рассыпались по ее голым смуглым плечам – она была в сарафане на лямочках. «Читал», – сказал я, стараясь справиться с дыханием. «Понравилось?» – «Очень», – сказал я. «А я не читала, – вдруг тихо и робко сказала она, нагнув голову, возясь со шпильками и глядя на меня сбоку и исподлобья, так, что ее косина стала незаметной. – Нигде не достать…» – «А у меня есть, то есть у нас дома есть», – сказал я. «Дашь почитать?» – «Конечно, Лена». – «Тогда занесешь в пять», – уже другой голос, уже приказ. Она выпрямилась, небрежно кивнула и пошла по своим делам.
В пять я был у нее дома. Красиво, хотя очень просто, проще некуда: трехкомнатный щитовой домик, так называемый финский, дощатые стены, деревянный стол, но зато какие фотографии по стенам! Хемингуэй, Пикассо, коррида, перестрелка, черт-те что. И было видно, что хозяин сам разговаривал с великими людьми, смотрел бой быков и прыгал через окопы под пулями.
Я протянул Ляльке два журнала, она стояла посреди комнаты, мы долго молчали, и я вдруг сказал: «Какая ты красивая, Лена». – «Я вообще-то Алёна или просто Лялька, во-первых. А во-вторых, я вовсе не такая красивая». – «Ты что?» – «А вот то, – вздохнула она. – У меня талии почти что нету».
Она положила журналы на стол, закинула руки назад, выгнулась, расстегнула крючок на спине и сняла сарафан через голову. Оказалась в синем лифчике и белых трусиках. «Видишь, – сказала она, взяв мою руку. – Грудь как у больших, ляжки и попа как у больших, а вот тут, – она провела моей ладонью от груди до бедер и вокруг, – а вот тут толстый животик, как у детишек… Потому что я еще маленькая. Но я скоро вырасту совсем большая, и талия у меня отрастет, правда?» – «Правда», – прошептал я. «Талия у меня отрастет, я стану совсем большая, и тогда тебе понравлюсь, может быть, – она совсем приблизилась ко мне, – и ты, может быть, меня тогда поцелуешь наконец».
Было лето 1967 года. Мне было шестнадцать, Ляльке – тринадцать.
Ирка Матусовская называла ее нимфеткой и рассказывала нам про роман Набокова «Лолита». Но Лялька никакой нимфеткой не была, несмотря на юный возраст. Она была именно что женщиной. В метафизическом смысле слова. Потому что у нас с ней ничего не было. Хотя мы целовались в саду, на улице, на речке и особенно в лесу – когда мы валялись на расстеленной куртке между тонкими березками, она вдруг обнимала меня и шептала: «А скажи, ты когда-нибудь…» – и умолкала. «Когда-нибудь что?» – «Это!» – «Что «это»?» – спрашивал я, хотя все прекрасно понимал. «Это! – смеялась она. – Вот это самое!» – «А ты как думала! – врал я. – Было дело». – «Ну и как?» – серьезно спрашивала она. «Во! – врал я еще бодрее и показывал большой палец. – Классно!» Наверное, я ждал от нее «а давай попробуем!» А она, наверное, ждала от меня того же самого.
Последний раз мы целовались у нее дома ночью. Мы были совсем одни, если не считать домработницы, которая громко храпела в соседней комнате. Мы измаялись, возясь на диване. Пикассо, Хемингуэй и раненые испанские бойцы-республиканцы смотрели на нас со стен сквозь полумрак. Лялька поднялась с дивана и написала несколько слов на листе бумаги. Протянула мне. Там было написано: «Почему ты такой холодный?» Помню ее почти детский почерк. Я написал в ответ: «Потому что у меня есть совесть. И Таня».
Потому что Таню я любил по-настоящему, и Лялька это знала, я ей говорил про Таню, а она обнимала меня и говорила: «Ну и наплевать, все мужчины изменники, я точно знаю!» Смешно, но Таня тоже была дочерью великого советского кинорежиссера, вот ведь совпало. Я любил Таню так сильно, что думал: еще день – и умру, просто от чувств и переживаний. А с Лялькой, значит, ей изменял, пока Таня отдыхала с подружкой в Паланге. Но изменить по-настоящему – не решался. И не только из любви и верности. Я еще и боялся. Все-таки девочке тринадцать лет. «Засудят! Посадят!» – говорили мне друзья, с которыми я делился сомнениями. Возможно, они так говорили от зависти. Мне весь поселок завидовал.
После этой роковой ночи Лялька меня бросила. Без слов. Просто на другое утро пошла кататься на лодке с моим товарищем, а потом они пошли гулять в лес, а потом в кино, а потом к ней на дачу, пока родители, то есть мама и отчим, были в Москве. А я стоял в компании ребят на перекрестке Центральной и Восточной, и они прошагали мимо нас – точно так же, как еще вчера я шагал мимо них, обнимая Ляльку за талию. Вернее, за то место, где должна была отрасти талия, как очаровательно шутила Лялька.
Без слов – значит, без слов. Я тоже не стал с ней объясняться.
На следующую ночь я написал Тане письмо. Писал, сидя за крохотным столиком в маленькой холодной комнате нашей времянки. Лампа стояла близко, щеке было жарко. Другой щеке было холодно от окна. Залетали толстые ночные бабочки, бились по стенам. Я хватал их рукой и выбрасывал наружу. Давить было жалко и гадко. Они прилетали снова. И еще громко зудела, как будто плакала, толстая разбуженная муха. Кажется, я и об этом написал Тане.
Письмо вышло нежное, ужасно любовное и даже отчасти бесстыжее. Я написал, что мечтаю расцеловать ее везде, и кажется, даже написал, где именно. Конечно, там не было ничего совсем уже неприличного. Там были ключицы, плечи, локти, локтевые сгибы, запястья, колени, икры, лодыжки, кругленькие косточки на лодыжках и все десять пальчиков на ногах. А кроме того, я написал ей, что решил к ней приехать туда, в Палангу, и что родители мне даже дадут деньги на билет и прожитье. Но это мне совершенно неинтересно, потому что в этом нет никакого подвига любви. Я сяду на велосипед (а у меня тогда был настоящий шоссейно-гоночный велосипед, который так и назывался «Чемпион шоссе», марка ХВЗ В–551) и на этом велосипеде за какие-нибудь пять, наверное, дней, ну, или за неделю обязательно доеду до Паланги. И буду там ее ждать в двенадцать часов дня около центральной почты.